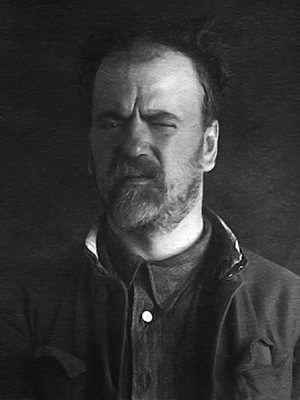1917—2017
СТУДЕНТЫ РЕВОЛЮЦИИ
Студенты революции — в прошлом, настоящем,
и, возможно, в вечности
и, возможно, в вечности
В сущности, проект о том, как студенты устроили революцию — авантюра. Хотя бы потому, что их было слишком мало, чтобы всерьез повлиять на ход событий. В 1917 году в России насчитывалось 124 вуза, в которых училось 135 тысяч студентов. Для сравнения: население Российской империи на тот момент — 179,8 миллионов человек. Но кроме большой истории есть множество историй частных, маленьких, незначительных с расстояния в сто лет и все же важных — 135 тысяч историй студентов революции.
Это истории математиков Ивана Петровского, Павла Александрова и Павла Урысона, биологов Феодосия Добржанского и Николая Тимофеева-Ресовского, химика Николая Семенова и физика Петра Капицы, философа Михаила Бахтина и психолога Льва Выготского, лингвиста Виктора Виноградова и переводчика Николая Вредена, советских государственных деятелей Анастаса Микояна, Лаврентия Берии и основателя Русской освободительной национальной армии (РОНА) Бронислава Каминского, композиторов Самуила, Дмитрия и Даниила Покрассов, пианистов Марии Юдиной и Владимира Софроницкого, писателей Бориса Зайцева и Юрия Тынянова, кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Михаила Ромма, актера Анатолия Кторова и врача Мирона Вовси, Католикоса-Патриарха всея Грузии Ефрема II, архиепископов Ермогена (Голубева), Вениамина (Новицкого) и Никона (Петина), архимандритов Софрония (Сахарова) и Киприана (Керна).
Добавим к этому списку аспирантов, докторантов, недавних выпускников и тех, кто по разным причинам был вынужден прервать обучение: поэта Сергея Есенина, прозаика Константина Паустовского, философа Алексея Лосева, социолога Питирима Сорокина, литературоведов Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума, публициста Сергея Эфрона, скрипача Яшу Хейфеца, педагога Михаила Воронкова, полководца Александра Василевского…
Кто–то из них оказался в авангарде революции, кто–то предпочел смотреть на нее со стороны. Нам хотелось бы увидеть каждого из них, услышать его историю, но по очевидным причинам это неосуществимо. И все-таки одна возможность есть: это дневники и воспоминания студентов — тогдашних, уже умерших, и размышления о революции студентов живых — совсем других, нынешних, которые, как и все мы, — наследники нашей сложной истории.
Это истории математиков Ивана Петровского, Павла Александрова и Павла Урысона, биологов Феодосия Добржанского и Николая Тимофеева-Ресовского, химика Николая Семенова и физика Петра Капицы, философа Михаила Бахтина и психолога Льва Выготского, лингвиста Виктора Виноградова и переводчика Николая Вредена, советских государственных деятелей Анастаса Микояна, Лаврентия Берии и основателя Русской освободительной национальной армии (РОНА) Бронислава Каминского, композиторов Самуила, Дмитрия и Даниила Покрассов, пианистов Марии Юдиной и Владимира Софроницкого, писателей Бориса Зайцева и Юрия Тынянова, кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Михаила Ромма, актера Анатолия Кторова и врача Мирона Вовси, Католикоса-Патриарха всея Грузии Ефрема II, архиепископов Ермогена (Голубева), Вениамина (Новицкого) и Никона (Петина), архимандритов Софрония (Сахарова) и Киприана (Керна).
Добавим к этому списку аспирантов, докторантов, недавних выпускников и тех, кто по разным причинам был вынужден прервать обучение: поэта Сергея Есенина, прозаика Константина Паустовского, философа Алексея Лосева, социолога Питирима Сорокина, литературоведов Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума, публициста Сергея Эфрона, скрипача Яшу Хейфеца, педагога Михаила Воронкова, полководца Александра Василевского…
Кто–то из них оказался в авангарде революции, кто–то предпочел смотреть на нее со стороны. Нам хотелось бы увидеть каждого из них, услышать его историю, но по очевидным причинам это неосуществимо. И все-таки одна возможность есть: это дневники и воспоминания студентов — тогдашних, уже умерших, и размышления о революции студентов живых — совсем других, нынешних, которые, как и все мы, — наследники нашей сложной истории.
Средний студент революции
168 см
рост
59 кг
вес
38%
шанс дожить до 30 лет
♥
страдает от революционной горячки, любовной тоски
и кишечного расстройства
и кишечного расстройства
ФЕВРАЛЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
27 февраля 1917 года
Вот он и наступил, наконец, этот день. В два часа ночи, только что вернувшись из Думы, я спешно стал записывать в дневник волнующие события этого дня. Поскольку я чувствовал себя неважно, а лекции в университете были практически отменены, я решил остаться дома и заняться чтением нового труда Вильфредо Парето «Трактат по общей социологии». Время от времени меня отвлекали от книги друзья, звонившие, чтобы обменяться новостями: «Толпы на Невском сегодня больше, чем когда-либо», «Рабочие Путиловского завода вышли на улицы».
В полдень телефонная связь прервалась. Около трех часов дня один из моих студентов ворвался ко мне с сообщением, что два полка при оружии и с красными флагами покинули казармы и движутся к зданию Государственной Думы. (…)
На Невском проспекте возле Екатерининского канала все еще было спокойно, но, повернув на Литейный, мы обнаружили, что толпа увеличивается, а стрельба усиливается. Слабые попытки полиции разогнать людей ни к чему не приводили.
― Эй, фараоны! Конец вам! ― кричали из толпы.
Осторожно пробираясь вперед вдоль Литейного, мы обнаружили свежие пятна крови и два трупа на тротуаре.
Умело находя лазейки, мы наконец добрались до Таврического дворца, окруженного крестьянами, рабочими и солдатами. Никаких попыток ворваться в здание Российского парламента еще не было, но везде куда ни кинь взгляд, стояли орудия и пулеметы.
Зал заседаний Думы являл резкий контраст смятению, царившему за стенами. Здесь, на первый взгляд, по-прежнему комфортно и покойно. Лишь там и тут по углам собирались группы депутатов, обсуждая ситуацию. Дума была фактически распущена, но Исполнительный комитет выполнял фактические обязанности Временного правительства.
Смятение неуверенность явно сквозили в разговорах депутатов. Капитаны, ведущие государственный корабль прямо в «пасть» урагана, вс же плохо представляли себе, куда следует плыть. (…)
― Вот, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец и на нашей улице праздник! ― крикнул один из моих студентов-рабочих, подбежав ко мне с товарищами. Лица молодых людей светились радостью и надеждой.
Войдя в комнату исполкома Думы, я нашел там несколько депутатов от социал-демократов и около дюжины рабочих, ядро будущего Совета. Они сразу же пригласили меня стать членом, но я тогда не ощущал себе позывов войти в Совет и ушел от них на собрание литераторов, образовавших официальный пресс-комитет революции.
«Кто уполномочил их представлять прессу?» ― задал я самому себе вопрос. Вот они, самозваные цензоры, рвущиеся к власти, чтобы давить все, что по их мнению является нежелательным, готовящиеся задушить свободу слова и печати. Внезапно вспомнилась фраза Флобера: «В каждом революционере прячется жандарм».
― Какие новости? ― спросил я депутата, прокладывающего путь сквозь толпу.
― Родзянко пытается связаться с императором по телеграфу. Исполком обсуждает создание нового кабинета министров, ответственного как перед царем, так и перед Думой.
― Кто начал и кто отвечает за происходящее?
― Никто. Революция развивается самопроизвольно.
Принесли еду, устроили буфет, девушки-студентки принялись кормить солдат. Это создало временное затишье. Но на улице, как удалось узнать, дела шли плохо. Продолжали вспыхивать перестрелки. Люди впадали в истерику от возбуждения. Полиция отступала. Около полуночи я смог уйти оттуда.
Поскольку трамвай не ходил, а извозчиков не было, я пошел пешком к Петроградской стороне, расположенной очень далеко от Думы.
Стрельба все еще не прекращалась, на улицах не горели фонари и было темно. На Литейном увидал бушующее пламя: чудесное здание Окружного суда яростно полыхало.
Кто-то воскликнул: «Зачем было поджигать? Неужели здание суда не нужно новой России?». Вопрос остался без ответа.
Мы видели, что другие правительственные здания, в том числе и полицейские участки, также охвачены огнем, и никто не прилагал ни малейших усилий, чтобы погасить его. Лица смеющихся, танцующих и кричащих зевак выглядели демонически в красных отсветах пламени. Тут и там валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере возбуждения толпы. Старая власть исчезала, превращаясь в прах, и никто не жалел о ней. Никого не волновало даже то, что огонь перекинулся и на частные дома по соседству.
― А, пусть горят, ― вызывающе сказал кто-то. ― Лес рубят ― щепки летят!
Вот он и наступил, наконец, этот день. В два часа ночи, только что вернувшись из Думы, я спешно стал записывать в дневник волнующие события этого дня. Поскольку я чувствовал себя неважно, а лекции в университете были практически отменены, я решил остаться дома и заняться чтением нового труда Вильфредо Парето «Трактат по общей социологии». Время от времени меня отвлекали от книги друзья, звонившие, чтобы обменяться новостями: «Толпы на Невском сегодня больше, чем когда-либо», «Рабочие Путиловского завода вышли на улицы».
В полдень телефонная связь прервалась. Около трех часов дня один из моих студентов ворвался ко мне с сообщением, что два полка при оружии и с красными флагами покинули казармы и движутся к зданию Государственной Думы. (…)
На Невском проспекте возле Екатерининского канала все еще было спокойно, но, повернув на Литейный, мы обнаружили, что толпа увеличивается, а стрельба усиливается. Слабые попытки полиции разогнать людей ни к чему не приводили.
― Эй, фараоны! Конец вам! ― кричали из толпы.
Осторожно пробираясь вперед вдоль Литейного, мы обнаружили свежие пятна крови и два трупа на тротуаре.
Умело находя лазейки, мы наконец добрались до Таврического дворца, окруженного крестьянами, рабочими и солдатами. Никаких попыток ворваться в здание Российского парламента еще не было, но везде куда ни кинь взгляд, стояли орудия и пулеметы.
Зал заседаний Думы являл резкий контраст смятению, царившему за стенами. Здесь, на первый взгляд, по-прежнему комфортно и покойно. Лишь там и тут по углам собирались группы депутатов, обсуждая ситуацию. Дума была фактически распущена, но Исполнительный комитет выполнял фактические обязанности Временного правительства.
Смятение неуверенность явно сквозили в разговорах депутатов. Капитаны, ведущие государственный корабль прямо в «пасть» урагана, вс же плохо представляли себе, куда следует плыть. (…)
― Вот, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец и на нашей улице праздник! ― крикнул один из моих студентов-рабочих, подбежав ко мне с товарищами. Лица молодых людей светились радостью и надеждой.
Войдя в комнату исполкома Думы, я нашел там несколько депутатов от социал-демократов и около дюжины рабочих, ядро будущего Совета. Они сразу же пригласили меня стать членом, но я тогда не ощущал себе позывов войти в Совет и ушел от них на собрание литераторов, образовавших официальный пресс-комитет революции.
«Кто уполномочил их представлять прессу?» ― задал я самому себе вопрос. Вот они, самозваные цензоры, рвущиеся к власти, чтобы давить все, что по их мнению является нежелательным, готовящиеся задушить свободу слова и печати. Внезапно вспомнилась фраза Флобера: «В каждом революционере прячется жандарм».
― Какие новости? ― спросил я депутата, прокладывающего путь сквозь толпу.
― Родзянко пытается связаться с императором по телеграфу. Исполком обсуждает создание нового кабинета министров, ответственного как перед царем, так и перед Думой.
― Кто начал и кто отвечает за происходящее?
― Никто. Революция развивается самопроизвольно.
Принесли еду, устроили буфет, девушки-студентки принялись кормить солдат. Это создало временное затишье. Но на улице, как удалось узнать, дела шли плохо. Продолжали вспыхивать перестрелки. Люди впадали в истерику от возбуждения. Полиция отступала. Около полуночи я смог уйти оттуда.
Поскольку трамвай не ходил, а извозчиков не было, я пошел пешком к Петроградской стороне, расположенной очень далеко от Думы.
Стрельба все еще не прекращалась, на улицах не горели фонари и было темно. На Литейном увидал бушующее пламя: чудесное здание Окружного суда яростно полыхало.
Кто-то воскликнул: «Зачем было поджигать? Неужели здание суда не нужно новой России?». Вопрос остался без ответа.
Мы видели, что другие правительственные здания, в том числе и полицейские участки, также охвачены огнем, и никто не прилагал ни малейших усилий, чтобы погасить его. Лица смеющихся, танцующих и кричащих зевак выглядели демонически в красных отсветах пламени. Тут и там валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере возбуждения толпы. Старая власть исчезала, превращаясь в прах, и никто не жалел о ней. Никого не волновало даже то, что огонь перекинулся и на частные дома по соседству.
― А, пусть горят, ― вызывающе сказал кто-то. ― Лес рубят ― щепки летят!
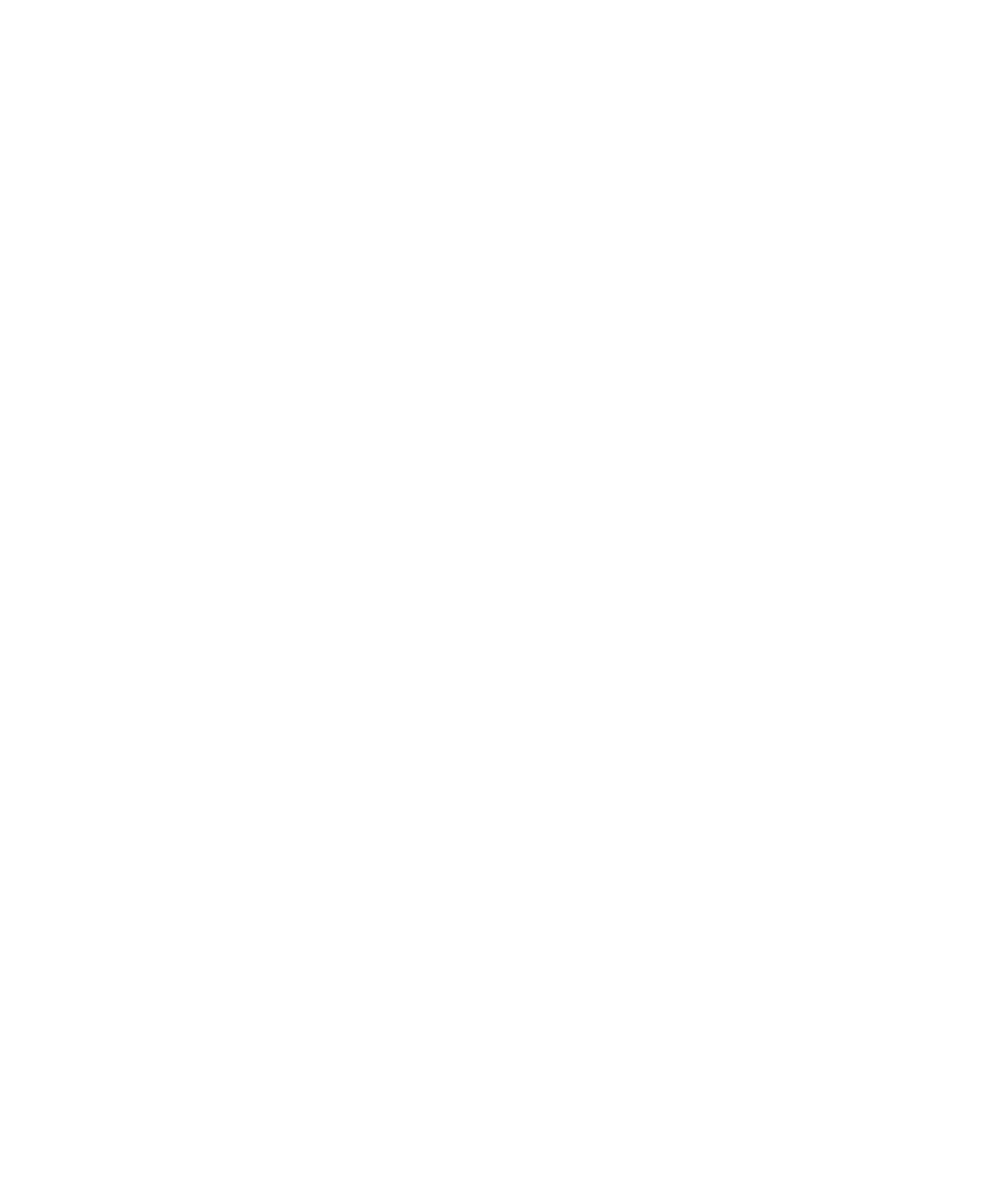
― А, пусть горят, ― вызывающе сказал кто-то. ― Лес рубят ― щепки летят!
28 февраля 1917 года
Все магазины закрыты, и деловая жизнь в городе прекратилась. Звуки пальбы доносились с разных сторон. Автомобили, набитые солдатами и вооруженными юнцами, ощетинившись винтовками и пулеметами, носились взад-вперед по улицам города, выискивая полицию или контрреволюционеров.
Государственная Дума сегодня являла собой зрелище, совершенно отличное от вчерашнего. Солдаты, рабочие, студенты, обыватели, стар и млад заполнили здание. Порядка, чистоты и эмоциональной сдержанности не было и в помине. Его Величество Народ был хозяином положения. В каждой комнате, в каждом углу спонтанно возникали импровизированные митинги, где произносилось много громких слов: «Долой царя!», «Смерть врагам народа!», «Да здравствует революция и демократическая республика!». Можно было устать от бесконечного повторения этих заклинаний.
Сегодня стало очевидным существование двух центров власти. Первый ― Исполнительный комитет Думы во главе с Родзянко, второй ― Совет рабочих и солдат, заседавший в другом крыле здания российского парламента.
С группой моих студентов из числа рабочих я вошел в комнату Совета. Вместо вчерашних двенадцати человек сегодня присутствовало три или четыре сотни. Было похоже, что стать членом Совета мог любой изъявивший желание, в результате весьма неформальных выборов.(…)
В середине разговора в комнату ворвался офицер, и потребовал, чтобы его связали с исполкомом Думы. «Что случилось?» ― спросили мы.
― Солдаты и матросы убивают всех офицеров Балтийского флота, ― кричал он. ― Комитет обязан вмешаться.
Во мне все похолодело. Но было бы сумасшествием ожидать, что революция обойдется без кровопролития. (…)
Все магазины закрыты, и деловая жизнь в городе прекратилась. Звуки пальбы доносились с разных сторон. Автомобили, набитые солдатами и вооруженными юнцами, ощетинившись винтовками и пулеметами, носились взад-вперед по улицам города, выискивая полицию или контрреволюционеров.
Государственная Дума сегодня являла собой зрелище, совершенно отличное от вчерашнего. Солдаты, рабочие, студенты, обыватели, стар и млад заполнили здание. Порядка, чистоты и эмоциональной сдержанности не было и в помине. Его Величество Народ был хозяином положения. В каждой комнате, в каждом углу спонтанно возникали импровизированные митинги, где произносилось много громких слов: «Долой царя!», «Смерть врагам народа!», «Да здравствует революция и демократическая республика!». Можно было устать от бесконечного повторения этих заклинаний.
Сегодня стало очевидным существование двух центров власти. Первый ― Исполнительный комитет Думы во главе с Родзянко, второй ― Совет рабочих и солдат, заседавший в другом крыле здания российского парламента.
С группой моих студентов из числа рабочих я вошел в комнату Совета. Вместо вчерашних двенадцати человек сегодня присутствовало три или четыре сотни. Было похоже, что стать членом Совета мог любой изъявивший желание, в результате весьма неформальных выборов.(…)
В середине разговора в комнату ворвался офицер, и потребовал, чтобы его связали с исполкомом Думы. «Что случилось?» ― спросили мы.
― Солдаты и матросы убивают всех офицеров Балтийского флота, ― кричал он. ― Комитет обязан вмешаться.
Во мне все похолодело. Но было бы сумасшествием ожидать, что революция обойдется без кровопролития. (…)
мнение эксперта
Александр Архангельский,
писатель, телеведущий
писатель, телеведущий
Единственная студенческая революция, которая была в истории, ― это революция 1968 года. По форме она очень смешная: танцы под «Интернационал» в захваченных аудиториях, красивые
надписи на стенах Сорбонны («Будьте реалистами, требуйте невозможного!»), дискуссии. Но по её результатам Европа изменилась! Все политические институты сохранились, а переменились
отношения между людьми и культурные стереотипы. А что произошло в России, где революция
была не поколенческой, а классовой? Снесены до основания все институты, никакой работы с
сознанием не было проведено, в итоге все прежние институты восстановлены в худшей форме.
надписи на стенах Сорбонны («Будьте реалистами, требуйте невозможного!»), дискуссии. Но по её результатам Европа изменилась! Все политические институты сохранились, а переменились
отношения между людьми и культурные стереотипы. А что произошло в России, где революция
была не поколенческой, а классовой? Снесены до основания все институты, никакой работы с
сознанием не было проведено, в итоге все прежние институты восстановлены в худшей форме.
Михаил Воронков
Студент Московского коммерческого института (1915–1917), со второго курса призван на военную службу в Нижний Новгород
—Вечером разнёсся слух о роспуске Государственной думы и начавшихся волнениях в Петрограде. Началось обсуждение текущего момента. Зашла речь о недавних волнениях сормовских рабочих и о возможных попытках местного начальства использовать батальон для «восстановления порядка»… Условились, что от последней миссии все категорически откажутся.
― Да и едва ли пошлют батальон, — добавляли некоторые.
Всех занимает вопрос — неужели трудовая Русь промолчит на этот раз и на поверхности останется буржуазия — верный союзник обанкротившегося дворянства. (…)
Вечером в батальоне была незабываемая сцена. Ротный командир ― капитан ― собрал свои взводы
и говорил о том, что военные люди должны поступать строго по уставу, должны быть прежде всего солдатами, какое бы правительство ни было в стране. Потом спросил, обращаясь ко всем:
― Согласны ли вы, господа, со мною?
Молчание…
Вдруг поднимается один студент и заявляет:
― Нет, не согласен.
― А кто вы такой? Подойдите сюда поближе…
Подходит вплотную к начальнику и на его вопрос: «В чём же вы не согласны со мною?» — говорит, что защитный костюм не сделал его солдатом-машиной, что, где бы он ни был, он поступит так, как подскажут ему его убеждения. Тогда, обращаясь к роте, капитан заявляет, что за этого рядового ручаться нельзя, что он может принять участие в уличных эксцессах.
После этого студент твёрдо отчеканивает:
― В разгроме лавок и краже булок, разумеется, участвовать не буду, а о чём здесь идёт речь — вы понимаете…
Капитан даёт распоряжение фельдфебелю не разрешать говорившему отпуска в город.
Вдруг с разных сторон раздаются голоса, что многие думают так же, как выступавший товарищ, но не имеют силы заявить об этом; потом начинается волнующее зрелище: один за другим встают студенты, заявляют, что не ручаются за себя, и просят лишить их отпуска.
Неожиданно поднимается растроганный капитан и срывающимся голосом говорит:
― Конечно, если уж нельзя будет держаться, то и я пойду с вами.
Зал буквально дрожит от рукоплесканий. Инцидент улажен, и смелый товарищ получает отпуск. К нему подходят студенты, дружески жмут руку и говорят, что сцена была чрезвычайно трогательна…
А слухи всё ширятся и ширятся… Говорят о присоединении войск к революционным массам…
Поздно ночью состоялись выборы в ротные комитеты, а из последних — в батальонный комитет…
― Да и едва ли пошлют батальон, — добавляли некоторые.
Всех занимает вопрос — неужели трудовая Русь промолчит на этот раз и на поверхности останется буржуазия — верный союзник обанкротившегося дворянства. (…)
Вечером в батальоне была незабываемая сцена. Ротный командир ― капитан ― собрал свои взводы
и говорил о том, что военные люди должны поступать строго по уставу, должны быть прежде всего солдатами, какое бы правительство ни было в стране. Потом спросил, обращаясь ко всем:
― Согласны ли вы, господа, со мною?
Молчание…
Вдруг поднимается один студент и заявляет:
― Нет, не согласен.
― А кто вы такой? Подойдите сюда поближе…
Подходит вплотную к начальнику и на его вопрос: «В чём же вы не согласны со мною?» — говорит, что защитный костюм не сделал его солдатом-машиной, что, где бы он ни был, он поступит так, как подскажут ему его убеждения. Тогда, обращаясь к роте, капитан заявляет, что за этого рядового ручаться нельзя, что он может принять участие в уличных эксцессах.
После этого студент твёрдо отчеканивает:
― В разгроме лавок и краже булок, разумеется, участвовать не буду, а о чём здесь идёт речь — вы понимаете…
Капитан даёт распоряжение фельдфебелю не разрешать говорившему отпуска в город.
Вдруг с разных сторон раздаются голоса, что многие думают так же, как выступавший товарищ, но не имеют силы заявить об этом; потом начинается волнующее зрелище: один за другим встают студенты, заявляют, что не ручаются за себя, и просят лишить их отпуска.
Неожиданно поднимается растроганный капитан и срывающимся голосом говорит:
― Конечно, если уж нельзя будет держаться, то и я пойду с вами.
Зал буквально дрожит от рукоплесканий. Инцидент улажен, и смелый товарищ получает отпуск. К нему подходят студенты, дружески жмут руку и говорят, что сцена была чрезвычайно трогательна…
А слухи всё ширятся и ширятся… Говорят о присоединении войск к революционным массам…
Поздно ночью состоялись выборы в ротные комитеты, а из последних — в батальонный комитет…
Борис Зайцев
Юнкер Московского Александровского
военного училища
военного училища
28 февраля
Было довольно тепло. Мы, в «милой жизни» бывшие студентами, учителями, адвокатами и просто людьми, шагали от Кудрина по Поварской ― в папахах, придававших нам несколько казачий вид, и в солдатских скатках; через плечо болтались папки с глазомерной съемкой. Мы знали, что в Петербурге ― военный бунт; но знали смутно. Утром видели за Пресненской заставой, как завод Земского союза прекратил работу. Волнений среди нас не было.
На Арбатской площади пришлось остановиться: с бульвара летел на нас автомобиль, в нем ― градоначальник. Я очень хорошо помню, что фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Лицо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто столь особенное, что приходилось сказать: «Да, началось».
Однако в этот день мы, как всегда, вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен. Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,
где висели портреты царей, слушали Бетховенскую сонату.
И не только этот, но и следующий день, когда, кажется, все уже было решено в Петербурге, мы дремали
в своем мрачном palazzo. Я покойно спал в ту ночь, как в Петербурге ни за что убили моего друга.
Было довольно тепло. Мы, в «милой жизни» бывшие студентами, учителями, адвокатами и просто людьми, шагали от Кудрина по Поварской ― в папахах, придававших нам несколько казачий вид, и в солдатских скатках; через плечо болтались папки с глазомерной съемкой. Мы знали, что в Петербурге ― военный бунт; но знали смутно. Утром видели за Пресненской заставой, как завод Земского союза прекратил работу. Волнений среди нас не было.
На Арбатской площади пришлось остановиться: с бульвара летел на нас автомобиль, в нем ― градоначальник. Я очень хорошо помню, что фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Лицо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто столь особенное, что приходилось сказать: «Да, началось».
Однако в этот день мы, как всегда, вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен. Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,
где висели портреты царей, слушали Бетховенскую сонату.
И не только этот, но и следующий день, когда, кажется, все уже было решено в Петербурге, мы дремали
в своем мрачном palazzo. Я покойно спал в ту ночь, как в Петербурге ни за что убили моего друга.
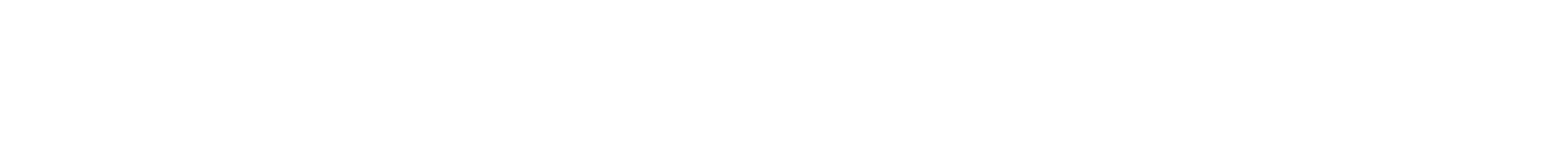
“
Однако в этот день мы, как всегда,
вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен.
Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,
где висели портреты царей, слушали
Бетховенскую сонату.
вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен.
Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,
где висели портреты царей, слушали
Бетховенскую сонату.
Михаил Бахтин
студент историко-филологического факультета Петроградского университета
Я не приветствовал Февральскую революцию. Более того, я, вернее, наш круг считали, что все это кончится очень плохо, что неизбежно... Мы знали как раз близко людей-то вот того, февральского-то... тех, которые отчасти делали, а потом, так сказать, ну, выдвинулись Февральской революцией. (…) Кадетов, да, кадетов и... этих... (…) трудовиков. Трудовиков, к которым принадлежал сам Керенский, одним словом, вот эту вот породу Керенских. Мы считали, что все эти интеллигенты совершенно неспособны управлять государством, неспособны защитить революцию Февральскую. (Если ее нужно защищать.) И поэтому неизбежно возьмут верх самые крайние, самые левые элементы, большевики. Ну, так оно и случилось. Совершенно были убеждены в этом. (…)
Их, так сказать, почти не знали. Но знали левых эсеров, больше знали, тоже крайних левых эсеров, которые потом работали с большевиками. Потом в кругу эсеров, в кругу социал-демократов тоже были люди наиболее левых, радикальных убеждений, которые потом... вошли в коммунистическую партию и так далее и так далее. Известностью пользовался Троцкий, Зиновьев, немного, правда. (…)
Неизбежна победа крайних элементов. Более того, я бы сказал, мы были настроены очень пессимистически:
мы считали, что дело кончено. Конечно, монархию нельзя восстановить, да и некому, да и им не на что опереться совершенно, что неизбежно победят вот эти вот самые массы солдат, солдаты и крестьяне в солдатских шинелях, которым ничего не дорого, пролетариат, который не исторический класс, у него нет никаких ценностей ― собственно, ничего у него нет. Всю жизнь он боролся только за очень узкие материальные блага. И что именно они захватят власть. И сбросить их некому будет, потому что вся эта вот интеллигенция, она на это неспособна.
Я не митинговал, нет-нет. Я сидел дома, читал, когда топили, в библиотеках сидел. Но нет, не митинговал.
Их, так сказать, почти не знали. Но знали левых эсеров, больше знали, тоже крайних левых эсеров, которые потом работали с большевиками. Потом в кругу эсеров, в кругу социал-демократов тоже были люди наиболее левых, радикальных убеждений, которые потом... вошли в коммунистическую партию и так далее и так далее. Известностью пользовался Троцкий, Зиновьев, немного, правда. (…)
Неизбежна победа крайних элементов. Более того, я бы сказал, мы были настроены очень пессимистически:
мы считали, что дело кончено. Конечно, монархию нельзя восстановить, да и некому, да и им не на что опереться совершенно, что неизбежно победят вот эти вот самые массы солдат, солдаты и крестьяне в солдатских шинелях, которым ничего не дорого, пролетариат, который не исторический класс, у него нет никаких ценностей ― собственно, ничего у него нет. Всю жизнь он боролся только за очень узкие материальные блага. И что именно они захватят власть. И сбросить их некому будет, потому что вся эта вот интеллигенция, она на это неспособна.
Я не митинговал, нет-нет. Я сидел дома, читал, когда топили, в библиотеках сидел. Но нет, не митинговал.
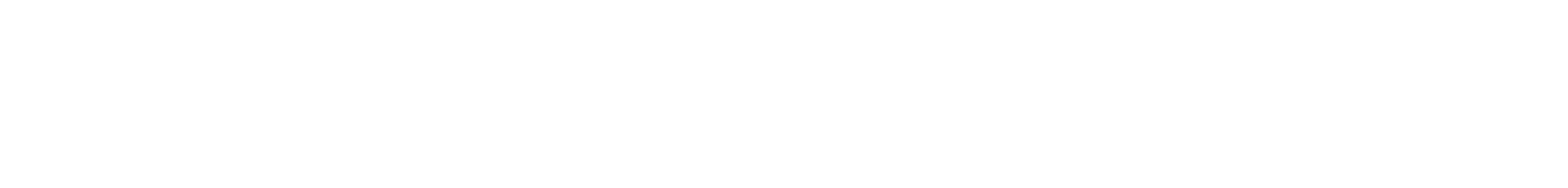
контекст
Февраль, который не помнят: МГУшники о революции
Студенты и выпускники МГУ все знают о Февральской революции, кроме того, что делали в тот момент их предки ― итоги нашего опроса.
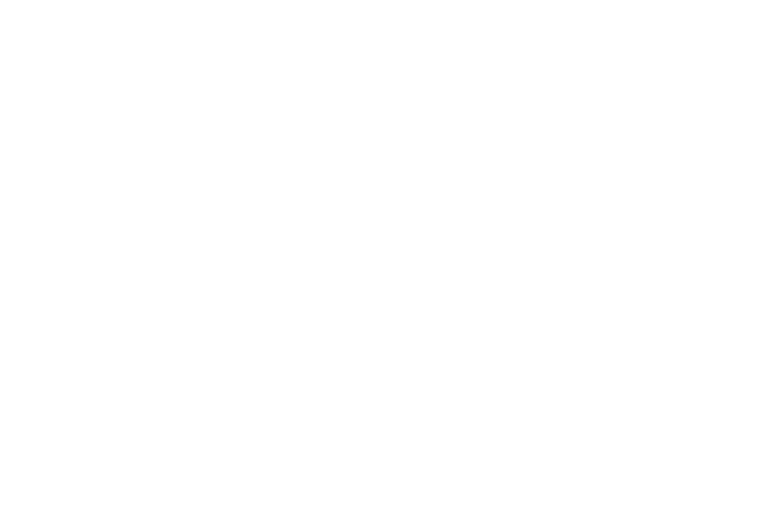
МАРТ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Старый режим рухнул по всей России, и мало кто сожалеет о нем. Все царские служащие от министра
до полицейского смещены и заменены людьми, преданными республике, чтобы ни у кого не возникло
и тени сомнения в нашем республиканском будущем. В Москве и в Петербурге население радуется
и веселится, как на Пасху. Все буквально приветствуют новый режим и Республику. «Свобода! Священная свобода!» ― кричат повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая,
как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение я слышал в толпе студентов, демонстрирующих по улицам.
― Погляди, какой замечательный народ! ― восхищался некий мой приятель, указывая на одну такую демонстрацию.
― Конечно, похоже, что все прекрасно, ― ответил я.
Однако, пытаясь убедить себя, что все действительно прекрасно, я не мог закрыть глаза на определенные реальности. Рабочие несли такие лозунги, как «К станкам и прессам!», а сами бросили работу
и проводили почти все свое время на политических митингах. Они начали требовать восьмичасовой
и даже шестичасовой рабочий день. Солдаты, точно так же, готовы сражаться, но вчера, когда один
из полков должен был отправляться на фронт, люди отказались, мотивируя тем, что они необходимы
в Петрограде для защиты революции. В эти дни мы также получили информацию, что крестьяне захватывают частные поместья, грабя и сжигая их. На улицах я видел много пьяных, матерившихся
и кричавших: «Да здравствует свобода! Нынче все позволено!» Проходя мимо здания недалеко
от Бестужевских курсов, я видел толпу, хохочущую и непристойно жестикулирующую. В подворотне
на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина. «Ха, ха, ― смеялись в толпе, ― поскольку свобода, все позволено!»
до полицейского смещены и заменены людьми, преданными республике, чтобы ни у кого не возникло
и тени сомнения в нашем республиканском будущем. В Москве и в Петербурге население радуется
и веселится, как на Пасху. Все буквально приветствуют новый режим и Республику. «Свобода! Священная свобода!» ― кричат повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая,
как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение я слышал в толпе студентов, демонстрирующих по улицам.
― Погляди, какой замечательный народ! ― восхищался некий мой приятель, указывая на одну такую демонстрацию.
― Конечно, похоже, что все прекрасно, ― ответил я.
Однако, пытаясь убедить себя, что все действительно прекрасно, я не мог закрыть глаза на определенные реальности. Рабочие несли такие лозунги, как «К станкам и прессам!», а сами бросили работу
и проводили почти все свое время на политических митингах. Они начали требовать восьмичасовой
и даже шестичасовой рабочий день. Солдаты, точно так же, готовы сражаться, но вчера, когда один
из полков должен был отправляться на фронт, люди отказались, мотивируя тем, что они необходимы
в Петрограде для защиты революции. В эти дни мы также получили информацию, что крестьяне захватывают частные поместья, грабя и сжигая их. На улицах я видел много пьяных, матерившихся
и кричавших: «Да здравствует свобода! Нынче все позволено!» Проходя мимо здания недалеко
от Бестужевских курсов, я видел толпу, хохочущую и непристойно жестикулирующую. В подворотне
на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина. «Ха, ха, ― смеялись в толпе, ― поскольку свобода, все позволено!»
“
«Свобода! Священная свобода!» ― кричат
повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая, как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение
я слышал в толпе студентов, демонстрирующих
по улицам.
повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая, как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение
я слышал в толпе студентов, демонстрирующих
по улицам.
мнение эксперта
Протоиерей Георгий Митрофанов,
заведующий кафедрой церковной истории
Санкт-Петербургской духовной академии
заведующий кафедрой церковной истории
Санкт-Петербургской духовной академии
В советское время произошла резкая плебеизация общества. Даже формально получив высшее образование, люди остаются на таком уровне, что не могут считаться продолжателями традиций русской интеллигенции.
Николай Вреден
Курсант Морского кадетского корпуса (Петроград)
Сидя за стеклянными дверями и глядя на поток торжествующих людей, заполнивших коридор, мы были обескуражены внезапным поворотом событий, чувствовали себя беспомощными и преданными. По истечении некоторого времени, показавшегося нам вечностью, в класс вошел офицер и объявил, что нам следует отправиться домой, выходя из училища по двое через небольшие интервалы времени.
Меня и моего товарища вызвали первыми. В холле нас обыскали солдаты на наличие оружия, затем нам было приказано надеть шинели и идти к главному входу. Там мы увидели офицера из училища, сидевшего рядом с армейским офицером, на шинели которого красовалась красная лента. Морской офицер передал нам увольнительные и сказал:
– Идите прямо домой и без вызова не возвращайтесь. Снаружи толпа, она может повести себя нехорошо. Идите, не вступайте ни в какие споры и ради самих себя, а также тех, кто последуют за вами, назад не возвращайтесь! Удачи!
Мы отдали честь и прошли в дверь. Нас встретили свист и улюлюканье. На тротуаре открылся узкий проход, однако улицу запрудили люди. Кто-то крикнул:
– Эти парни стреляли в нас! Не дайте им уйти! Мы покажем им, как убивать людей!
Ступая рядом, мы шли твердой походкой, не глядя по сторонам и не разговаривая друг с другом. Прежде чем миновали квартал, стало ясно, что часть толпы нас преследует. Ругаясь и науськивая друг друга, преследователи догоняли нас. Когда мы дошли до угла второго квартала, они были уже так близко, что каждую секунду я ожидал удара ножом в спину.
Внезапно воздух пронзила пулеметная очередь ― пулемет бил вдоль перекрестной улицы.
Это дало нам шанс оторваться от толпы: мы побежали. Люди позади нас ругались и потрясали кулаками, но остались на противоположной стороне улицы. Позже мы узнали, что другие курсанты были менее удачливыми: некоторые из них подверглись нападениям и получили значительные ранения. (…)
Меня и моего товарища вызвали первыми. В холле нас обыскали солдаты на наличие оружия, затем нам было приказано надеть шинели и идти к главному входу. Там мы увидели офицера из училища, сидевшего рядом с армейским офицером, на шинели которого красовалась красная лента. Морской офицер передал нам увольнительные и сказал:
– Идите прямо домой и без вызова не возвращайтесь. Снаружи толпа, она может повести себя нехорошо. Идите, не вступайте ни в какие споры и ради самих себя, а также тех, кто последуют за вами, назад не возвращайтесь! Удачи!
Мы отдали честь и прошли в дверь. Нас встретили свист и улюлюканье. На тротуаре открылся узкий проход, однако улицу запрудили люди. Кто-то крикнул:
– Эти парни стреляли в нас! Не дайте им уйти! Мы покажем им, как убивать людей!
Ступая рядом, мы шли твердой походкой, не глядя по сторонам и не разговаривая друг с другом. Прежде чем миновали квартал, стало ясно, что часть толпы нас преследует. Ругаясь и науськивая друг друга, преследователи догоняли нас. Когда мы дошли до угла второго квартала, они были уже так близко, что каждую секунду я ожидал удара ножом в спину.
Внезапно воздух пронзила пулеметная очередь ― пулемет бил вдоль перекрестной улицы.
Это дало нам шанс оторваться от толпы: мы побежали. Люди позади нас ругались и потрясали кулаками, но остались на противоположной стороне улицы. Позже мы узнали, что другие курсанты были менее удачливыми: некоторые из них подверглись нападениям и получили значительные ранения. (…)
Константин Паустовский
Студент Московского университета,
вынужденно прервал учёбу в 1914 году
вынужденно прервал учёбу в 1914 году
По всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг. Людские сборища шумели
на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах,
в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.
Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.
Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу.
На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам
и застрявшему в России французскому офицеру ― члену французской социалистической партии,
а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы ― памятниками Пушкину и Скобелеву.
Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос.
― С какого фронта? ― кричали из толпы. ― Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?
Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: «Он с Ходынского фронта! Долой!» ―
его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу.
Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.
Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела:
― Какой дивизии? Какой части?
Солдат сердито прищурился.
― Чего орете! ― закричал он. ― Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется
в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина ― шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!
Это был сильный прием. Толпа замолчала.
― Ты вшей покорми в окопах, ― закричал солдат, ― тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало, что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу ― одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу ― оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства.
на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах,
в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.
Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.
Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу.
На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам
и застрявшему в России французскому офицеру ― члену французской социалистической партии,
а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы ― памятниками Пушкину и Скобелеву.
Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос.
― С какого фронта? ― кричали из толпы. ― Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?
Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: «Он с Ходынского фронта! Долой!» ―
его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу.
Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.
Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела:
― Какой дивизии? Какой части?
Солдат сердито прищурился.
― Чего орете! ― закричал он. ― Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется
в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина ― шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!
Это был сильный прием. Толпа замолчала.
― Ты вшей покорми в окопах, ― закричал солдат, ― тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало, что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу ― одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу ― оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства.
“
Мы считали, что присягнули революции;
мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе
его величества ― ныне «мы военные»,
nous autres militaires ― Революции.
мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе
его величества ― ныне «мы военные»,
nous autres militaires ― Революции.
Борис Зайцев
Юнкер Московского Александровского
военного училища
военного училища
В огромном зале юнкера выстроились в каре, с пустотою посредине. Сумрачный день кончался. Взад и вперед ходил под люстрой бритый полковник ― в форме военного юриста. Первый представитель революционной власти. Мы очень волновались. Когда утихли, полковник начал: «Господа, старое правительство свергнуто...»
Рев и стон, «ура» не дали ему продолжать. Он знал, что этот рев будет, и спокойно выждал.
Затем с подъемом, не без аффектации сообщил, что нас благодарит командующий войсками за порядок, дисциплину.
«Революция произошла. Врага пока нет. Ваш выход на улицу не нужен, даже вреден, так как везде и так возбуждение. Когда вы нужны будете, я за вами приеду, ― выкрикнул патетически полковник, ― и вы за мной пойдете?».
Он опять знал заранее, что мы заорем, опять стоял с поднятой фуражкой, слегка помахивая ею над головой, пока нервы наши разряжались в криках. Затем на вопрос, можно ли все-таки выйти, подумав, ответил:
― Можно, если вы хотите принести нам вред.
Аргумент не из плохих. Он подействовал. Кроме того, полковник дал нам возможность поорать еще в честь революции и свободы, что значительно упрощало дело.
Начинало темнеть. Было ясно, что выходить уже поздно. Толпе и войскам он обещал рассказать, что мы «с ними», т.е. в дурном нас не могут теперь заподозрить.
Мы расстались дружественно. Входя в свой автомобиль, тоже красный, как вчера у градоначальника, полковник говорил речь и «народу». «Народ» тоже кричал и тоже разошелся.
Наш вестибюль опустел. Наступил вечер. Мы вернулись в роту ― возбужденные, усталые, но веселые. Мы считали, что присягнули революции; мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе его величества ― ныне «мы военные», nous autres militaires ― Революции.
Рев и стон, «ура» не дали ему продолжать. Он знал, что этот рев будет, и спокойно выждал.
Затем с подъемом, не без аффектации сообщил, что нас благодарит командующий войсками за порядок, дисциплину.
«Революция произошла. Врага пока нет. Ваш выход на улицу не нужен, даже вреден, так как везде и так возбуждение. Когда вы нужны будете, я за вами приеду, ― выкрикнул патетически полковник, ― и вы за мной пойдете?».
Он опять знал заранее, что мы заорем, опять стоял с поднятой фуражкой, слегка помахивая ею над головой, пока нервы наши разряжались в криках. Затем на вопрос, можно ли все-таки выйти, подумав, ответил:
― Можно, если вы хотите принести нам вред.
Аргумент не из плохих. Он подействовал. Кроме того, полковник дал нам возможность поорать еще в честь революции и свободы, что значительно упрощало дело.
Начинало темнеть. Было ясно, что выходить уже поздно. Толпе и войскам он обещал рассказать, что мы «с ними», т.е. в дурном нас не могут теперь заподозрить.
Мы расстались дружественно. Входя в свой автомобиль, тоже красный, как вчера у градоначальника, полковник говорил речь и «народу». «Народ» тоже кричал и тоже разошелся.
Наш вестибюль опустел. Наступил вечер. Мы вернулись в роту ― возбужденные, усталые, но веселые. Мы считали, что присягнули революции; мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе его величества ― ныне «мы военные», nous autres militaires ― Революции.
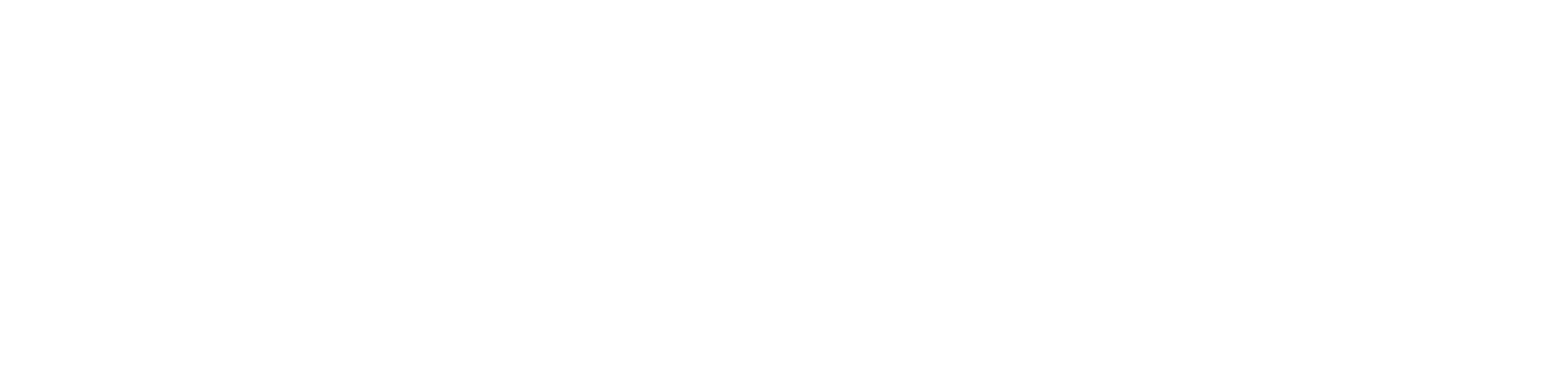
контекст
Студенты о революции 1917 года
Этот приём используют все: пройтись и поспрашивать самых обычных ребят, получающих высшее образование, о каком-нибудь знаковом событии. Для проекта «Студенты революции» мы спрашивали, сами догадайтесь о чём.
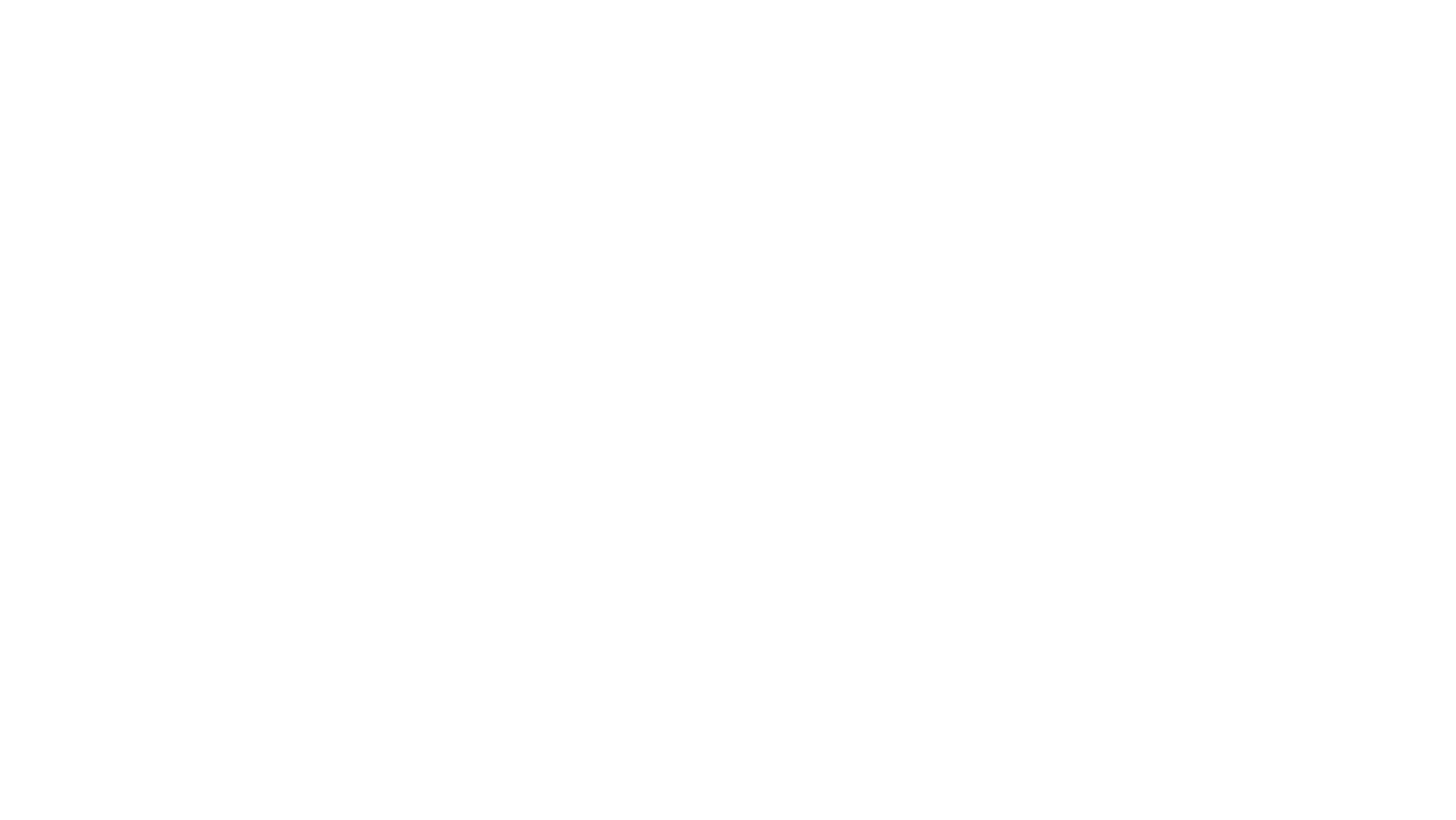
Михаил Воронков
Студент Московского коммерческого института (1915—1917), со второго курса призван на военную службу в Нижний Новгород
1 марта
Вечером в 10 часов, уже после поверки, раздалась команда ― собраться в зал. Один из гласных Городской думы сообщил о роспуске из тюрьмы каторжан толпою неизвестных, возможно с провокационными целями, и об опасности, угрожающей в связи с этим городу. Он просил студентов взять на себя охрану города и умиротворение бунтующих в данное время уголовных. В ответ ― восторженное всеобщее согласие.
Пришли офицеры... Взводы быстро построились. Потом пришлось почему-то довольно долго ждать. Изредка в рядах вспыхивал огненный звук «Марсельезы»... Наконец вывели. Ротный дал задание ― быстро справиться с арестантами и, если нужно, поработать как следует штыками. Тронулись...
Внезапно разнёсся слух, что к тюрьме идёт 185 полк, вооружённый боевыми патронами (в то время как
у студентов не было ничего, кроме винтовок со штыками), и что он на стороне арестантов. Слух был пущен, несомненно, тёмными элементами из переулков. Полк действительно явился, но не для сражения, а на смену батальону, последний же перебросили в «Палас-театр» сторожить загнанных туда с улиц каторжан. Их собрано 600 человек, многие вооружены гирями и щеколдами... Страшное зрелище представляли они... Первый пост у внутренней двери «арестантской» залы заняли двое студентов. Как только ушёл разводящий, каторжане кольцом окружили их и прижали к самой двери.
Послышались насмешливые голоса из толпы: «Что же вы стали "смирно"? Садитесь!», «У вас боевые патроны?» Студенты солгали, что на пост иначе не ходят, хотя в подсумках у них ничего не было. Каторжане стояли так близко, что пришлось крепко стискивать стволы винтовок в окаменевших руках... Понемногу разговорились (хотя подавляющее большинство каторжан держалось вдалеке и смотрело враждебно). Один всё оправдывался, что убил он невольно, из-за огорчений жизни и преследований полиции... Другие настойчиво допрашивали студентов ― скоро ли их освободят. Часовые заверяли их, что революционный комитет быстро разберёт их дела и обеспечит, кому возможно, возврат к светлой жизни, что преступлений и зла в свободной России будет меньше... В таких душеспасительных разговорах прошло время до 6 часов утра, когда батальон сменили, и сейчас же назначили в вечерний караул.
2 марта
Несмотря на бессонную ночь, спать никому не хотелось. Группами разошлись по городу, бродили без цели
по спускам и улицам, дыша ароматами зари революции. Улицы радостно оживлены, всюду толпы народа, солдат...
Движение для Нижнего необычайное... Лица возбуждённые...
Повсеместно встречается местная учащаяся молодежь, вступившая в отряды гражданской милиции. Очень горько чувствовать себя несвободным в эти минуты и подчиняться военным порядкам, установленным рухнувшим режимом.
К полудню собрались в батальон...
Один товарищ рассказывал, что, заглянув в книжный магазин, он безотчётно, сам не зная почему, купил французскую книжку и написал на ней: «На память о первом марта 1917 года»...
Все посмеялись, а некоторые говорили ему: «А ведь в самом деле, то, что мы переживаем, похоже на чудесную сказку»... (...)
Вечером в 10 часов, уже после поверки, раздалась команда ― собраться в зал. Один из гласных Городской думы сообщил о роспуске из тюрьмы каторжан толпою неизвестных, возможно с провокационными целями, и об опасности, угрожающей в связи с этим городу. Он просил студентов взять на себя охрану города и умиротворение бунтующих в данное время уголовных. В ответ ― восторженное всеобщее согласие.
Пришли офицеры... Взводы быстро построились. Потом пришлось почему-то довольно долго ждать. Изредка в рядах вспыхивал огненный звук «Марсельезы»... Наконец вывели. Ротный дал задание ― быстро справиться с арестантами и, если нужно, поработать как следует штыками. Тронулись...
Внезапно разнёсся слух, что к тюрьме идёт 185 полк, вооружённый боевыми патронами (в то время как
у студентов не было ничего, кроме винтовок со штыками), и что он на стороне арестантов. Слух был пущен, несомненно, тёмными элементами из переулков. Полк действительно явился, но не для сражения, а на смену батальону, последний же перебросили в «Палас-театр» сторожить загнанных туда с улиц каторжан. Их собрано 600 человек, многие вооружены гирями и щеколдами... Страшное зрелище представляли они... Первый пост у внутренней двери «арестантской» залы заняли двое студентов. Как только ушёл разводящий, каторжане кольцом окружили их и прижали к самой двери.
Послышались насмешливые голоса из толпы: «Что же вы стали "смирно"? Садитесь!», «У вас боевые патроны?» Студенты солгали, что на пост иначе не ходят, хотя в подсумках у них ничего не было. Каторжане стояли так близко, что пришлось крепко стискивать стволы винтовок в окаменевших руках... Понемногу разговорились (хотя подавляющее большинство каторжан держалось вдалеке и смотрело враждебно). Один всё оправдывался, что убил он невольно, из-за огорчений жизни и преследований полиции... Другие настойчиво допрашивали студентов ― скоро ли их освободят. Часовые заверяли их, что революционный комитет быстро разберёт их дела и обеспечит, кому возможно, возврат к светлой жизни, что преступлений и зла в свободной России будет меньше... В таких душеспасительных разговорах прошло время до 6 часов утра, когда батальон сменили, и сейчас же назначили в вечерний караул.
2 марта
Несмотря на бессонную ночь, спать никому не хотелось. Группами разошлись по городу, бродили без цели
по спускам и улицам, дыша ароматами зари революции. Улицы радостно оживлены, всюду толпы народа, солдат...
Движение для Нижнего необычайное... Лица возбуждённые...
Повсеместно встречается местная учащаяся молодежь, вступившая в отряды гражданской милиции. Очень горько чувствовать себя несвободным в эти минуты и подчиняться военным порядкам, установленным рухнувшим режимом.
К полудню собрались в батальон...
Один товарищ рассказывал, что, заглянув в книжный магазин, он безотчётно, сам не зная почему, купил французскую книжку и написал на ней: «На память о первом марта 1917 года»...
Все посмеялись, а некоторые говорили ему: «А ведь в самом деле, то, что мы переживаем, похоже на чудесную сказку»... (...)
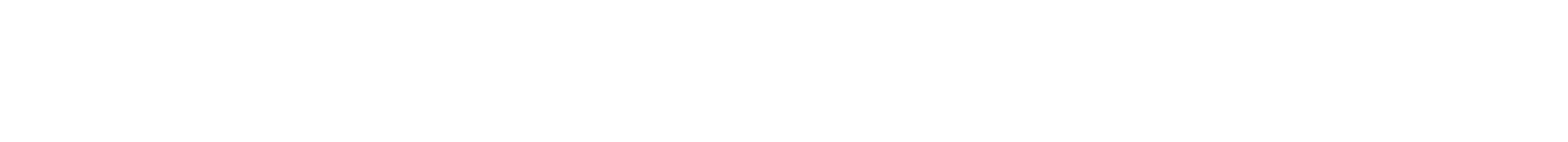
12 марта
Прошли, как мгновения, первые десять дней свободы. Все упиваются ею, все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ― красные ленты и банты... В батальоне начались жаркие споры о войне и мире. Большинство студентов ― за «победный» конец! Видимо, оно имеет уши, чтобы не слышать!.. Сегодня же состоялась присяга новому режиму. Текст, напыщенный, торжественный, но ничего не говорящий душе. Ненужная мишура!.. (...)
15 марта
Сегодня Нижний Новгород чтит память павших за свободу. Благовещенская площадь залита волнами народа и войск. Целое море красных и траурных флагов. Звучит «Марсельеза» и «Вы жертвою пали»... Обнажаются головы... Трогательное, невероятное для России зрелище: полиции нет и... везде порядок... Не хочется возвращаться в казарму... Вечером слушаем чтение пьесы Ибсена «Фру Ингер из Эстрота».
С воли поступают слухи о том, что во всех общественных учреждениях идут митинги, профессиональные
и организационные собрания... Жизнь выходит из берегов!..
19 марта
Сегодня хоронили жертву петроградских событий ― солдата-нижегородца. Был глубоко трогательный момент, когда под протяжные волнующие звуки «Коль славен» выносили тело из дома, и все войска взяли на караул. Так безумно хотелось вернуть ушедшего в наши ряды для радостной светлой жизни... Потом состоялось долгое утомительное шествие по улицам города под звуки похоронного марша, с остановками и неизменными речами. Далее ― Крестовоздвиженский монастырь, погребение и три шаблонные залпа салюта. Процесс стрельбы захватил всех, и о погребённом забыли. На обратном пути батальонный офицер и студенты искренне жалели о неудачном третьем залпе... А у погибшего остались мать, жена
и ребёнок. Помнит ли кто-нибудь о них в эти минуты?
Прошли, как мгновения, первые десять дней свободы. Все упиваются ею, все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ― красные ленты и банты... В батальоне начались жаркие споры о войне и мире. Большинство студентов ― за «победный» конец! Видимо, оно имеет уши, чтобы не слышать!.. Сегодня же состоялась присяга новому режиму. Текст, напыщенный, торжественный, но ничего не говорящий душе. Ненужная мишура!.. (...)
15 марта
Сегодня Нижний Новгород чтит память павших за свободу. Благовещенская площадь залита волнами народа и войск. Целое море красных и траурных флагов. Звучит «Марсельеза» и «Вы жертвою пали»... Обнажаются головы... Трогательное, невероятное для России зрелище: полиции нет и... везде порядок... Не хочется возвращаться в казарму... Вечером слушаем чтение пьесы Ибсена «Фру Ингер из Эстрота».
С воли поступают слухи о том, что во всех общественных учреждениях идут митинги, профессиональные
и организационные собрания... Жизнь выходит из берегов!..
19 марта
Сегодня хоронили жертву петроградских событий ― солдата-нижегородца. Был глубоко трогательный момент, когда под протяжные волнующие звуки «Коль славен» выносили тело из дома, и все войска взяли на караул. Так безумно хотелось вернуть ушедшего в наши ряды для радостной светлой жизни... Потом состоялось долгое утомительное шествие по улицам города под звуки похоронного марша, с остановками и неизменными речами. Далее ― Крестовоздвиженский монастырь, погребение и три шаблонные залпа салюта. Процесс стрельбы захватил всех, и о погребённом забыли. На обратном пути батальонный офицер и студенты искренне жалели о неудачном третьем залпе... А у погибшего остались мать, жена
и ребёнок. Помнит ли кто-нибудь о них в эти минуты?
“
Прошли, как мгновения, первые
десять дней свободы. Все упиваются ею,
все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны
лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ―
красные ленты и банты...
десять дней свободы. Все упиваются ею,
все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны
лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ―
красные ленты и банты...
Ольга Бессарабова
Слушательница высших женских курсов
В.А. Полторацкой
В.А. Полторацкой
13 марта
Шурочка Доброва пошла на Воскресенскую площадь «для сильных ощущений» (смеется) и «потому,
что не могла сидеть за печкой». Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится. Саша гимназист с колокольню ростом. Елизавета Михайловна (их мать) пошла с ними.
— Не могла дураков этих одних отпустить — погибать, так вместе, да и интересно, — комментировала Шура по телефону «похождение семейства». […]
Сегодня только на Мясницкой около нашего Союза (около Лубянки, бывшая Сибирская гостиница)
кто-то сломал трамвай и начал ломать рельсы ломом. Толпа со свистом и хохотом прогнала ломальщиков:
— Хотят напакостить. Гоните провокаторов и дураков! От кого и кому ломаете?!
Комиссия общественного спасения организовывает из учащихся и частных людей добровольцев — народную милицию. Бабы в очередях толкуют:
— Булочные громить нипочем не позволим.
Один господин позвал извозчика без всякого оттенка в голосе:
— Извозчик, свободен?
А извозчик говорит:
— Надо сказать господин извозчик, а не извозчик.
— Господин извозчик, свободен? — юмористически и нагло переспросил седок.
Извозчик не понял насмешки и чудесно ухмыльнулся. Я вскипела гневом на господина за пренебрежение
к простодушию дурака и на извозчика за глупость. Почему-то меня больно ранила эта сценка.
16 марта
На Воскресенской площади у Городской Думы конных встретили белыми носовыми платками, — как белые голуби взлетели над толпой. Я случайно шла рядом с самым первым конным всадником. Я заметила, что у передовых солдат перед каждым эшелоном (или ротой, как это про конных сказать? — они ехали стройно, такими группами, отделяясь небольшим пространством от последующий, такой же стройной группы) у передних линий конных всадников в руках были красные бумажные флажки, похожие на елочные детские. Вероятно, под рукой не оказалось красной материи. На Воскресенской площади, где в море толпы были красные факелы флагов.[…]
К вечеру, позднее, толпа на улице стала невыносима и поистине ужасна. Я не узнала этого города, этих людей. Это не Москва. Это та Москва, которую ненавидит Сережа? Не праздничность, радостно и светло растворяющая в себе днем всех, всех и все и вся, а праздность и какая-то пряная одурелость. И улыбаются уже не теми улыбками, а так, что не хочется видеть. Гуляют, потому что много народу. У некоторых лица жуликов, то есть, вероятно, у жуликов должны быть такие лица, и не смотрят, а высматривают. Всплыло,
и как будто не могла стряхнуть слово — «блудливые», стало как-то мутно и тошно даже. Противные некрасивые были лица, когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у этих городовых лица неприятные, но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.
Шурочка Доброва пошла на Воскресенскую площадь «для сильных ощущений» (смеется) и «потому,
что не могла сидеть за печкой». Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится. Саша гимназист с колокольню ростом. Елизавета Михайловна (их мать) пошла с ними.
— Не могла дураков этих одних отпустить — погибать, так вместе, да и интересно, — комментировала Шура по телефону «похождение семейства». […]
Сегодня только на Мясницкой около нашего Союза (около Лубянки, бывшая Сибирская гостиница)
кто-то сломал трамвай и начал ломать рельсы ломом. Толпа со свистом и хохотом прогнала ломальщиков:
— Хотят напакостить. Гоните провокаторов и дураков! От кого и кому ломаете?!
Комиссия общественного спасения организовывает из учащихся и частных людей добровольцев — народную милицию. Бабы в очередях толкуют:
— Булочные громить нипочем не позволим.
Один господин позвал извозчика без всякого оттенка в голосе:
— Извозчик, свободен?
А извозчик говорит:
— Надо сказать господин извозчик, а не извозчик.
— Господин извозчик, свободен? — юмористически и нагло переспросил седок.
Извозчик не понял насмешки и чудесно ухмыльнулся. Я вскипела гневом на господина за пренебрежение
к простодушию дурака и на извозчика за глупость. Почему-то меня больно ранила эта сценка.
16 марта
На Воскресенской площади у Городской Думы конных встретили белыми носовыми платками, — как белые голуби взлетели над толпой. Я случайно шла рядом с самым первым конным всадником. Я заметила, что у передовых солдат перед каждым эшелоном (или ротой, как это про конных сказать? — они ехали стройно, такими группами, отделяясь небольшим пространством от последующий, такой же стройной группы) у передних линий конных всадников в руках были красные бумажные флажки, похожие на елочные детские. Вероятно, под рукой не оказалось красной материи. На Воскресенской площади, где в море толпы были красные факелы флагов.[…]
К вечеру, позднее, толпа на улице стала невыносима и поистине ужасна. Я не узнала этого города, этих людей. Это не Москва. Это та Москва, которую ненавидит Сережа? Не праздничность, радостно и светло растворяющая в себе днем всех, всех и все и вся, а праздность и какая-то пряная одурелость. И улыбаются уже не теми улыбками, а так, что не хочется видеть. Гуляют, потому что много народу. У некоторых лица жуликов, то есть, вероятно, у жуликов должны быть такие лица, и не смотрят, а высматривают. Всплыло,
и как будто не могла стряхнуть слово — «блудливые», стало как-то мутно и тошно даже. Противные некрасивые были лица, когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у этих городовых лица неприятные, но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.
“
Противные некрасивые были лица, когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у этих городовых лица неприятные,
но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.
но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.
интервью с ректором
Алексей Варламов, ректор Литературного института
имени А. М. Горького
имени А. М. Горького
Молодежь должна бузить, только так, чтобы от этого вреда никому не было. А потом из этих
«бузотеров» могут выйти крепкие государственники. Следует соблюдать баланс между
твердостью и снисходительностью. У нас это, к сожалению, часто плохо удается.
«бузотеров» могут выйти крепкие государственники. Следует соблюдать баланс между
твердостью и снисходительностью. У нас это, к сожалению, часто плохо удается.
АПРЕЛЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.
― Товарищ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пошли ко мне домой, ― обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга!
Все политические заключенные освобождены и возвращаются из Сибири и из-за рубежа. Их с триумфом встречают правительственные комитеты, солдаты, рабочие, городская публика. Оркестры, флаги и речи встречают каждую новую группу прибывающих. Возвращающиеся ссыльные чувствуют себя героями-победителями, заслужившими, чтобы народ почитал их «освободителями» и «благодетелями». Здесь есть забавный момент, большинство этих людей никогда не были политическими осужденными, а представляли обычных воров, убийц и рядовых жуликов. Ко всем, однако, относятся как к жертвам царизма. Очевидно, что среди всех форм тщеславия есть и революционное тщеславие с неограниченными претензиями.
Многие из вернувшихся «политических» потеряли душевное равновесие. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокости, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть, жестокую неприязнь и презрение к человеческой жизни и страданиям. Советы, укомплектованные этими «героями», все более и более теряют чувство реальности. Они направляют свою энергию на противодействие правительству и славословия социализму и ничего не делают для переобучения и реорганизации русского общества. Что касается правительства, то оно оказалось хаотично и бессильно в своих действиях. Разделение власти сейчас полное, и правительство с каждым днем теряет почву под ногами. (…)
― Товарищ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пошли ко мне домой, ― обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга!
Все политические заключенные освобождены и возвращаются из Сибири и из-за рубежа. Их с триумфом встречают правительственные комитеты, солдаты, рабочие, городская публика. Оркестры, флаги и речи встречают каждую новую группу прибывающих. Возвращающиеся ссыльные чувствуют себя героями-победителями, заслужившими, чтобы народ почитал их «освободителями» и «благодетелями». Здесь есть забавный момент, большинство этих людей никогда не были политическими осужденными, а представляли обычных воров, убийц и рядовых жуликов. Ко всем, однако, относятся как к жертвам царизма. Очевидно, что среди всех форм тщеславия есть и революционное тщеславие с неограниченными претензиями.
Многие из вернувшихся «политических» потеряли душевное равновесие. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокости, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть, жестокую неприязнь и презрение к человеческой жизни и страданиям. Советы, укомплектованные этими «героями», все более и более теряют чувство реальности. Они направляют свою энергию на противодействие правительству и славословия социализму и ничего не делают для переобучения и реорганизации русского общества. Что касается правительства, то оно оказалось хаотично и бессильно в своих действиях. Разделение власти сейчас полное, и правительство с каждым днем теряет почву под ногами. (…)
“
Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами
и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего
ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.
и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего
ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.
Николай Вреден
Курсант Морского кадетского корпуса (Петроград)
Исчезли красно-голубые нарукавные повязки военной полиции, а на углу улицы больше не стоял флегматичный, надежный полицейский. Одно из поразительных заблуждений, которым Россия страдала
в начале революции, состояло в том, что свободная страна не нуждается в силовой поддержке закона,
а Временное правительство не предпринимало попыток создать профессиональную полицию.
В Петрограде, насчитывавшем в то время два с половиной миллиона населения, полицейские функции были переданы добровольной организации, состоявшей из молодых людей студенческого возраста.
Чтобы не произносить ненавистного слова «полиция», их называли «городской милицией». Не имея соответствующей подготовки и лишь смутно представляя свои функции, испытывая страх перед эмансипированной солдатней, милиционеры имели жалкий вид. Все были одеты по-разному, ружья, которые они носили за спиной, казались слишком длинными и слишком тяжелыми для них.
С наступлением темноты эти стражи порядка предпочитали прятаться в подъездах и, казалось, стремились провести ночь, не обнаруживая своего местоположения. ( …)
Обстановка таила в себе много возможностей для криминала. Удивительно, однако, что закоренелые преступники не спешили воспользоваться этим. Возможно, они рассчитывали на удачу, или, может, привычка делать свое дело тайком слишком укоренилась в них. Какова бы ни была причина, но не они,
а бродяги и хулиганы задавали тон. Ничто не может проиллюстрировать неэффективность Временного правительства более выразительно, чем винные и алкогольные бунты, которые держали в страхе Петроград в марте и апреле.
Царское правительство запретило на время войны продажу алкогольных напитков; все погреба и склады, где они хранились, были опечатаны. В течение трех лет печати оставались в сохранности, но с началом революции жажда горячительных напитков среди простого народа усилилась. Толпы грабили погреб
за погребом, склад за складом. Если где-либо сохранился винный магазин, вся округа жила в тревоге, ожидая неизбежного.
в начале революции, состояло в том, что свободная страна не нуждается в силовой поддержке закона,
а Временное правительство не предпринимало попыток создать профессиональную полицию.
В Петрограде, насчитывавшем в то время два с половиной миллиона населения, полицейские функции были переданы добровольной организации, состоявшей из молодых людей студенческого возраста.
Чтобы не произносить ненавистного слова «полиция», их называли «городской милицией». Не имея соответствующей подготовки и лишь смутно представляя свои функции, испытывая страх перед эмансипированной солдатней, милиционеры имели жалкий вид. Все были одеты по-разному, ружья, которые они носили за спиной, казались слишком длинными и слишком тяжелыми для них.
С наступлением темноты эти стражи порядка предпочитали прятаться в подъездах и, казалось, стремились провести ночь, не обнаруживая своего местоположения. ( …)
Обстановка таила в себе много возможностей для криминала. Удивительно, однако, что закоренелые преступники не спешили воспользоваться этим. Возможно, они рассчитывали на удачу, или, может, привычка делать свое дело тайком слишком укоренилась в них. Какова бы ни была причина, но не они,
а бродяги и хулиганы задавали тон. Ничто не может проиллюстрировать неэффективность Временного правительства более выразительно, чем винные и алкогольные бунты, которые держали в страхе Петроград в марте и апреле.
Царское правительство запретило на время войны продажу алкогольных напитков; все погреба и склады, где они хранились, были опечатаны. В течение трех лет печати оставались в сохранности, но с началом революции жажда горячительных напитков среди простого народа усилилась. Толпы грабили погреб
за погребом, склад за складом. Если где-либо сохранился винный магазин, вся округа жила в тревоге, ожидая неизбежного.
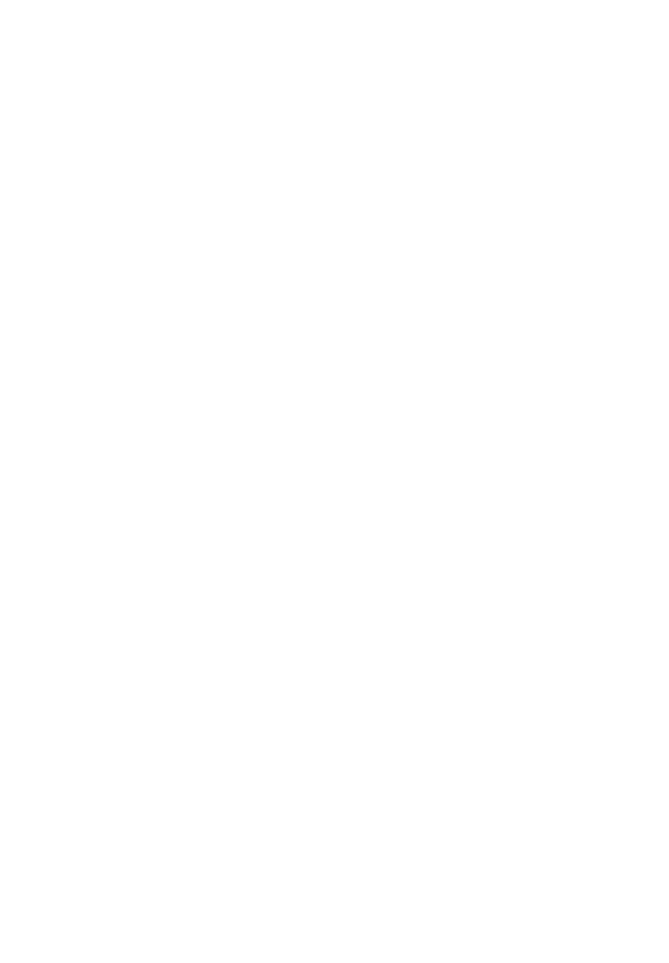
Мужчины и женщины,
не привыкшие упражняться
в критике, прислушивались к разглагольствованиям
о социальной несправедливости и,
не находя решения, становились угрюмыми
и строптивыми.
не привыкшие упражняться
в критике, прислушивались к разглагольствованиям
о социальной несправедливости и,
не находя решения, становились угрюмыми
и строптивыми.
Грабеж происходил по шаблону. Откуда-то появлялась небольшая группа людей, бросавших жадные взгляды на окна и двери. Некоторое время поколебавшись, самые решительные среди них пробивались внутрь помещения и хватали первые бутылки. За ними немедленно следовали разгоряченные мужчины
и женщины, которые набивались в склад и отчаянно боролись за каждую бутылку вина или ликера. Вызывали милиционеров, которые в ряде случаев действительно стремились остановить грабеж, но чаще они беспомощно наблюдали за происходящим или даже сами принимали участие в грабеже. Далее шла очередь пожарного департамента. В дело пускали пожарные шланги. Струи холодной воды производили отрезвляющий эффект, но победа оказывалась кратковременной. Вскоре пожарных окружали агрессивные толпы, которые обрезали шланги и переворачивали пожарные машины.
Затем появлялась рота солдат, и толпа отступала, оставив несколько раненых и убитых. Когда восстанавливалось спокойствие, солдаты начинали пробовать спасенное спиртное, и в течение часа возобновлялось буйное веселье. Посылали вторую роту для усмирения первой, и разыгрывалось настоящее сражение. После препирательств стороны применяли ружья и пулеметы. Вновь прибывшие неизменно одерживали верх, и только лишь для того, чтобы утолить свое желание выпить после овладения позицией конкурентов. Приходилось вызывать новый отряд войск.
Битва следовала за битвой. Небольшой погреб очищали за несколько часов, некоторые большие склады грабили три-четыре дня, а беспорядки принимали характер крупного сражения. Когда выпивалась последняя бутылка, на месте погрома устанавливалось спокойствие. Оставались лишь разбитые стаканы, выщербленные стены и изрешеченные пулями тела. (…)
Заводские рабочие больше не интересовались работой. Они отказывались слушать начальников и инженеров даже в технических вопросах, вся их энергия уходила на обсуждение нового устройства жизни. Водители трамваев и автотранспорта не видели оснований напрягаться, когда закрываются заводы и учреждения. После семи вечера передвигаться можно было только пешком.
Владельцы железнодорожных билетов на места 3-го класса в вагонах занимали места 1-го класса, считая, что революция всех уравняла в правах. (...)
Мужчины и женщины, не привыкшие упражняться в критике, прислушивались к разглагольствованиям
о социальной несправедливости и, не находя решения, становились угрюмыми и строптивыми. Зрелые умы предавались ораторскому искусству в отчаянии от невозможности что-либо предпринять. Менее зрелые люди устали слушать и ориентировались на лидеров, способных найти простые решения всех проблем.
и женщины, которые набивались в склад и отчаянно боролись за каждую бутылку вина или ликера. Вызывали милиционеров, которые в ряде случаев действительно стремились остановить грабеж, но чаще они беспомощно наблюдали за происходящим или даже сами принимали участие в грабеже. Далее шла очередь пожарного департамента. В дело пускали пожарные шланги. Струи холодной воды производили отрезвляющий эффект, но победа оказывалась кратковременной. Вскоре пожарных окружали агрессивные толпы, которые обрезали шланги и переворачивали пожарные машины.
Затем появлялась рота солдат, и толпа отступала, оставив несколько раненых и убитых. Когда восстанавливалось спокойствие, солдаты начинали пробовать спасенное спиртное, и в течение часа возобновлялось буйное веселье. Посылали вторую роту для усмирения первой, и разыгрывалось настоящее сражение. После препирательств стороны применяли ружья и пулеметы. Вновь прибывшие неизменно одерживали верх, и только лишь для того, чтобы утолить свое желание выпить после овладения позицией конкурентов. Приходилось вызывать новый отряд войск.
Битва следовала за битвой. Небольшой погреб очищали за несколько часов, некоторые большие склады грабили три-четыре дня, а беспорядки принимали характер крупного сражения. Когда выпивалась последняя бутылка, на месте погрома устанавливалось спокойствие. Оставались лишь разбитые стаканы, выщербленные стены и изрешеченные пулями тела. (…)
Заводские рабочие больше не интересовались работой. Они отказывались слушать начальников и инженеров даже в технических вопросах, вся их энергия уходила на обсуждение нового устройства жизни. Водители трамваев и автотранспорта не видели оснований напрягаться, когда закрываются заводы и учреждения. После семи вечера передвигаться можно было только пешком.
Владельцы железнодорожных билетов на места 3-го класса в вагонах занимали места 1-го класса, считая, что революция всех уравняла в правах. (...)
Мужчины и женщины, не привыкшие упражняться в критике, прислушивались к разглагольствованиям
о социальной несправедливости и, не находя решения, становились угрюмыми и строптивыми. Зрелые умы предавались ораторскому искусству в отчаянии от невозможности что-либо предпринять. Менее зрелые люди устали слушать и ориентировались на лидеров, способных найти простые решения всех проблем.
мнение эксперта
Фёдор Гайда, доцент исторического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова
МГУ имени М. В. Ломоносова
К 1905 году российские вузы бурлили революционными идеями. Стрельба, срыв лекций, сходки
и демонстрации были делом обыденным. Но позднее ситуация стала постепенно меняться: во-первых, единое студенческое движение разделилось по партийному признаку и нередко межпартийная борьба была еще более жесткой, чем их борьба с властью; во-вторых, появилась Государственная дума, где были представлены разные силы, в том числе и революционеры. Студенческое движение еще продолжалось, но сильный удар ему был нанесен в 1911 году введением полиции на территорию университетов.
С началом Первой мировой войны многие были призваны на фронт. В результате к 1917 году говорить
о серьезном студенческом движении не приходилось.
и демонстрации были делом обыденным. Но позднее ситуация стала постепенно меняться: во-первых, единое студенческое движение разделилось по партийному признаку и нередко межпартийная борьба была еще более жесткой, чем их борьба с властью; во-вторых, появилась Государственная дума, где были представлены разные силы, в том числе и революционеры. Студенческое движение еще продолжалось, но сильный удар ему был нанесен в 1911 году введением полиции на территорию университетов.
С началом Первой мировой войны многие были призваны на фронт. В результате к 1917 году говорить
о серьезном студенческом движении не приходилось.
МАЙ
Питирим Сорокин
Аспирант (приват-доцент) юридического факультета Петроградского университета
Сегодня мы узнали настоящий вкус бунта черни. Нота министерства иностранных дел союзникам о том, что Временное правительство будет верно всем договорам и обязательствам, взятым на себя Россией, подверглась яростным нападкам Советов и большевиков. Сегодня, примерно в полдень, два полка в полном вооружении покинули казармы, чтобы поддержать бунтовщиков. Началась стрельба! Грабеж магазинов принял всеобщие масштабы.
Мы все живем в кратере вулкана, который в любой момент может взорваться. Ситуация неприятная, но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней. Во всяком случае все это достаточно интересно.
Сегодня мы опубликовали первый номер «Воли народа». Организация Всероссийского крестьянского съезда идет удачно и приближается к завершению.
Мой стиль жизни стал регулярным в своей нерегулярности. Я обедаю, ложусь и встаю, работаю в разное время суток. День за днем я трачу силы на агитацию, переживания и выполнение прорвы дел. Иногда я ощущаю себя бездомным псом.
Мы все живем в кратере вулкана, который в любой момент может взорваться. Ситуация неприятная, но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней. Во всяком случае все это достаточно интересно.
Сегодня мы опубликовали первый номер «Воли народа». Организация Всероссийского крестьянского съезда идет удачно и приближается к завершению.
Мой стиль жизни стал регулярным в своей нерегулярности. Я обедаю, ложусь и встаю, работаю в разное время суток. День за днем я трачу силы на агитацию, переживания и выполнение прорвы дел. Иногда я ощущаю себя бездомным псом.
“
Мы все живем в кратере вулкана, который в любой момент может взорваться. Ситуация неприятная,
но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней.
Во всяком случае все это достаточно интересно.
но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней.
Во всяком случае все это достаточно интересно.
мнение эксперта
Алексей Светозарский,
заведующий кафедрой церковной истории
Московской духовной академии
заведующий кафедрой церковной истории
Московской духовной академии
Студенты играли очень активную роль в февральских событиях, но, скорее всего, это была авансцена русской революции. Но в октябре происходит внутренний конфликт: революционная молодёжь выступила на защиту завоеваний февраля. Здесь было юношеское стремление к справедливости, потому что противники явно нечисто играли. Студенты всячески раскачивали ситуацию и требовали от Московской городской думы и командования Московским военным округом решительных действий, хотя существовало поле для переговоров. А потом произошло то, что произошло
Константин Паустовский
Студент Московского университета,
вынужденно прервал учёбу в 1914 году
вынужденно прервал учёбу в 1914 году
Идиллическое благодушие первых дней революции померкло. Трещали и рушились миры. Я встретил Февральскую революцию с мальчишеским восторгом, хотя мне было уже двадцать пять лет. Мне наивно верилось, что эта революция может внезапно переменить людей к лучшему и объединить непримиримых врагов. Мне казалось, что человеку не так уж трудно ради бесспорных ценностей революции отказаться
от пережитков прошлого, от всяческой скверны и прежде всего от жажды обогащения, национальной вражды и угнетения себе подобных. Я был всегда уверен, что в каждом человеке заложены зачатки доброй воли и все дело лишь в том, чтобы вызвать их из глубины его существа.
Но скоро я убедился, что эти прекраснодушные настроения ― наполовину дым и тлен. Каждый день швырял мне в лицо жесткие доказательства того, что человек не так просто меняется и революция пока что не уничтожила ни ненависти, ни взаимного недоверия.
Я гнал от себя эту неприятную мысль, но она не уходила и омрачала мою радость. Все чаще вспыхивал гнев. Особенно сильно я начал ненавидеть приглаженных и либеральных интеллигентов, стремительно
и явно поглупевших, по моему мнению, от недоброжелательства к своему, недавно еще умилявшему их, народу.
от пережитков прошлого, от всяческой скверны и прежде всего от жажды обогащения, национальной вражды и угнетения себе подобных. Я был всегда уверен, что в каждом человеке заложены зачатки доброй воли и все дело лишь в том, чтобы вызвать их из глубины его существа.
Но скоро я убедился, что эти прекраснодушные настроения ― наполовину дым и тлен. Каждый день швырял мне в лицо жесткие доказательства того, что человек не так просто меняется и революция пока что не уничтожила ни ненависти, ни взаимного недоверия.
Я гнал от себя эту неприятную мысль, но она не уходила и омрачала мою радость. Все чаще вспыхивал гнев. Особенно сильно я начал ненавидеть приглаженных и либеральных интеллигентов, стремительно
и явно поглупевших, по моему мнению, от недоброжелательства к своему, недавно еще умилявшему их, народу.
Борис Зайцев
Юнкер Московского Александровского
военного училища
военного училища
Рота выбрала меня делегатом; с этого дня получил я привилегию: в то время как товарищи проделывали «ротное ученье» или еще какую прелесть, я мог заседать, с глубокомысленным видом решать вопросы училищной жизни в маленьком классе под парикмахерской. Мне пришлось тогда бывать в Совете солдатских депутатов в качестве члена его. Видел я море солдатских папах, шинелей, бородатых лиц, бойких вольноопределяющихся из евреев и представителей «окопов» ― людей действительно видавших виды. Все они получили возможность говорить.
Серое человечество долго молчало; много терпело всяких бед и зол, грубостей, мордобитий и несправедливостей ― и однажды проснулось свободнейшим из человечеств. Говорить захотелось. Косолапо, нечленораздельно заговорили. Но все казалось мало. Бесконечно подымались на трибуну Политехнического музея «товарищи», десятки раз повторялись, с наивностью утверждали общеизвестное, но так и быть должно, ибо ведь в первый раз, впервые! О своих, кровных, мучительных делах.
Были и трогательные минуты. Приехал командующий войсками. Говорил он вещи нехитрые. Потом вызвал к себе на эстраду солдата и поцеловал. «В его лице всех вас целую, товарищи». Я сидел довольно высоко. Среди грома рукоплесканий чувствовалось, как взволнованы солдаты. В дальнейшем во время речи многие сморкались. Обернувшись назад, я увидел рыжего солдата, который положил голову на барьер и плакал.
Серое человечество долго молчало; много терпело всяких бед и зол, грубостей, мордобитий и несправедливостей ― и однажды проснулось свободнейшим из человечеств. Говорить захотелось. Косолапо, нечленораздельно заговорили. Но все казалось мало. Бесконечно подымались на трибуну Политехнического музея «товарищи», десятки раз повторялись, с наивностью утверждали общеизвестное, но так и быть должно, ибо ведь в первый раз, впервые! О своих, кровных, мучительных делах.
Были и трогательные минуты. Приехал командующий войсками. Говорил он вещи нехитрые. Потом вызвал к себе на эстраду солдата и поцеловал. «В его лице всех вас целую, товарищи». Я сидел довольно высоко. Среди грома рукоплесканий чувствовалось, как взволнованы солдаты. В дальнейшем во время речи многие сморкались. Обернувшись назад, я увидел рыжего солдата, который положил голову на барьер и плакал.
“
Серое человечество долго молчало;
много терпело всяких бед и зол, грубостей, мордобитий и несправедливостей —
и однажды проснулось свободнейшим
из человечеств. Говорить захотелось.
много терпело всяких бед и зол, грубостей, мордобитий и несправедливостей —
и однажды проснулось свободнейшим
из человечеств. Говорить захотелось.
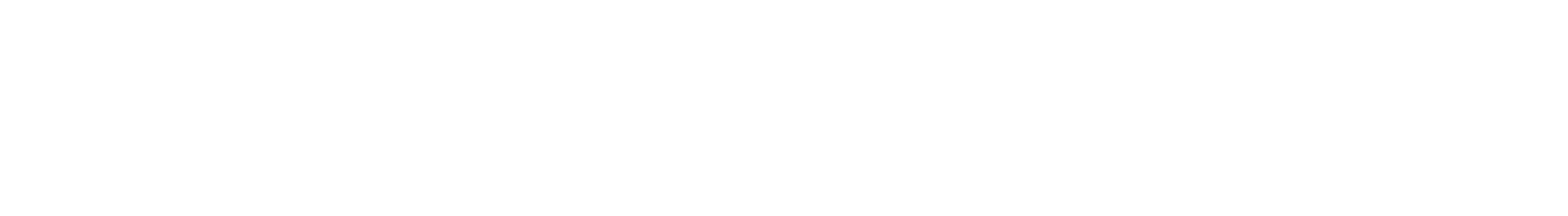
контекст
Что читали студенты революции?
Тот факт, что Великую Французскую революцию подготовили Вольтер, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, а революцию 1917 года ― классики «золотого века» русской литературы, мало у кого вызывает сомнение. Но читали будущие революционеры, конечно, не только классику.

ИЮНЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Интересный эпизод произошел, когда Ленин появился на съезде. Забравшись на трибуну, он драматическим жестом скинул плащ и начал говорить. В лице этого человека было нечто, напоминавшее религиозных фанатиков-староверов. Он плохой и скучный оратор. И его усилия поднять энтузиазм по отношению к большевикам оказались абсолютно никчемными. Его речь была принята холодно, сам он,
его личность, вызывали враждебность аудитории, и после выступления он ушел в явном замешательстве. Большевистская «Правда» и другие газеты интернационалистов возобновили нападки на крестьянский съезд, называя его «цитаделью социал-патриотов
и мелких буржуа». Ну что же, пусть лают дальше. (…)
По пути в город я проходил мимо дворца Кшесинской, захваченного большевиками и используемого как штаб. Все попытки правительства выгнать захватчиков оттуда не имели успеха. Дворец Дурново, занятый анархистами, так же как и другие виллы, незаконно экспроприированные уголовниками, называвшими себя анархистами или коммунистами, все еще во владении захватчиков. Напрасно суды предписывали освободить помещения, так же тщетно отдавал аналогичные приказы министр юстиции. Безрезультатно.
Я остановился возле дворца Кшесинской послушать Ленина. Хотя он и был плохим оратором, мне казалось, что этот человек далеко пойдет. Почему? Да потому, что он был готов и настроен поощрять
все то насилие, преступления и непристойности, которым чернь в этих безнравственных условиях готова была дать волю. (…)
Бедняга Керенский делал все, что в его силах. Он произносил одну за другой блестящие речи, но диких зверей не удержишь красноречием. Городам угрожал голод, поскольку работа практически прекратилась.
По вечерам происходят беспорядки и убийства на улицах. Белые одеяния революции покрываются все больше и больше пятнами крови. Усиливается голод. (…)
Наша революционная армия потерпела поражение. Она разбита и в панике отступает, сметая все на своем пути. Убийства, насилие, грабежи, опустошенные поля, разрушенные села отмечают места, где прошли oтcтупающие войска. Никакой дисциплины, никакой власти, никакого снисхождения к безвинно страдающему населению. Генерал Корнилов и Б. Савинков требуют введения смертной казни для дезертиров. Напрасно! Бессильное правительство и Советы даже в минуту опасности не имеют воли
к действию. (…)
его личность, вызывали враждебность аудитории, и после выступления он ушел в явном замешательстве. Большевистская «Правда» и другие газеты интернационалистов возобновили нападки на крестьянский съезд, называя его «цитаделью социал-патриотов
и мелких буржуа». Ну что же, пусть лают дальше. (…)
По пути в город я проходил мимо дворца Кшесинской, захваченного большевиками и используемого как штаб. Все попытки правительства выгнать захватчиков оттуда не имели успеха. Дворец Дурново, занятый анархистами, так же как и другие виллы, незаконно экспроприированные уголовниками, называвшими себя анархистами или коммунистами, все еще во владении захватчиков. Напрасно суды предписывали освободить помещения, так же тщетно отдавал аналогичные приказы министр юстиции. Безрезультатно.
Я остановился возле дворца Кшесинской послушать Ленина. Хотя он и был плохим оратором, мне казалось, что этот человек далеко пойдет. Почему? Да потому, что он был готов и настроен поощрять
все то насилие, преступления и непристойности, которым чернь в этих безнравственных условиях готова была дать волю. (…)
Бедняга Керенский делал все, что в его силах. Он произносил одну за другой блестящие речи, но диких зверей не удержишь красноречием. Городам угрожал голод, поскольку работа практически прекратилась.
По вечерам происходят беспорядки и убийства на улицах. Белые одеяния революции покрываются все больше и больше пятнами крови. Усиливается голод. (…)
Наша революционная армия потерпела поражение. Она разбита и в панике отступает, сметая все на своем пути. Убийства, насилие, грабежи, опустошенные поля, разрушенные села отмечают места, где прошли oтcтупающие войска. Никакой дисциплины, никакой власти, никакого снисхождения к безвинно страдающему населению. Генерал Корнилов и Б. Савинков требуют введения смертной казни для дезертиров. Напрасно! Бессильное правительство и Советы даже в минуту опасности не имеют воли
к действию. (…)
“
Бедняга Керенский делал все, что в его силах.
Он произносил одну за другой блестящие речи,
но диких зверей не удержишь красноречием. Городам угрожал голод, поскольку работа практически прекратилась.
Он произносил одну за другой блестящие речи,
но диких зверей не удержишь красноречием. Городам угрожал голод, поскольку работа практически прекратилась.
Константин Паустовский
Студент Московского университета,
вынужденно прервал учёбу в 1914 году
вынужденно прервал учёбу в 1914 году
Жаркий ветер гонял по мостовой вороха измятых и рваных газет. Почти каждый день в Москве появлялись
новые газеты, иногда самых необыкновенных направлений, вплоть до теософских и анархических
с лозунгом: «Анархия ― мать порядка».
Ветер трепал на стенах десятки то обличительных, то призывающих к благоразумию воззваний. Воздух был пропитан керосиновым запахом типографской краски и ржаного хлеба. Этот последний деревенский запах принесла с собой армия. Город заполнялся солдатами, валившими в тыл, несмотря на крикливые приказы Керенского.
Москва превратилась в буйное военное становище. Солдаты плотно оседали вокруг вокзалов. Привокзальные площади курились дымом, как развалины завоеванных городов. Но это был не пороховой дым, а дым махорки. Ветер вертел серые смерчи из подсолнечной шелухи.
Для экономии электричества часы по приказу правительства сильно передвинули назад. Солнце заходило
в четыре часа дня.
Весь город был на ногах. Квартиры пустовали. Ночи напролет люди хрипли на митингах, слонялись
от бессонницы по улицам, сидели и спорили в скверах или просто на панели. Незнакомые, встречаясь
на митингах, в одно мгновение становились друзьями или врагами. Прошло уже четыре месяца с начала революции, но возбуждение не затихало. Тревога все так же томила сердца.
Я решил поехать на осень к матери. Я вымотался в Москве. За все это время я ничего не успел прочесть, кроме множества наспех отпечатанных на газетной бумаге политических брошюр, отражавших непримиримую схватку партий. (…)
Из церкви слышалось старческое пение. Изредка тренькал на звоннице колокол.
― Уж и не знаем, ― сказал мне монашек, ― звонить или нет. Опасаемся. Как бы обиды не было от этого
для предержащих ныне властей. Вот и звоним чуть-чуть. Ворона сидит на звоннице ― так и та не слетает. Пожалуйте в храм.
Мы вошли в церковь. Горело всего три-четыре свечи. Старики в черных схимнических рясах с нашитыми на них белыми крестами и черепами не шевельнулись. Коричневой позолотой поблескивали во мраке узкие лица святителей. Горьковато пахло горелыми можжевеловыми ягодами,― ими монахи курили вместо ладана. Все как-то смешалось в сознании, ― древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, Москва, крест над могилой Лели, окопные завшивевшие солдаты, митинги, революция, марсельеза, Керенский, «Мир хижинам – война дворцам». Все это казалось пестрым сном, ― это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало в этой жизни уже привычкой.
новые газеты, иногда самых необыкновенных направлений, вплоть до теософских и анархических
с лозунгом: «Анархия ― мать порядка».
Ветер трепал на стенах десятки то обличительных, то призывающих к благоразумию воззваний. Воздух был пропитан керосиновым запахом типографской краски и ржаного хлеба. Этот последний деревенский запах принесла с собой армия. Город заполнялся солдатами, валившими в тыл, несмотря на крикливые приказы Керенского.
Москва превратилась в буйное военное становище. Солдаты плотно оседали вокруг вокзалов. Привокзальные площади курились дымом, как развалины завоеванных городов. Но это был не пороховой дым, а дым махорки. Ветер вертел серые смерчи из подсолнечной шелухи.
Для экономии электричества часы по приказу правительства сильно передвинули назад. Солнце заходило
в четыре часа дня.
Весь город был на ногах. Квартиры пустовали. Ночи напролет люди хрипли на митингах, слонялись
от бессонницы по улицам, сидели и спорили в скверах или просто на панели. Незнакомые, встречаясь
на митингах, в одно мгновение становились друзьями или врагами. Прошло уже четыре месяца с начала революции, но возбуждение не затихало. Тревога все так же томила сердца.
Я решил поехать на осень к матери. Я вымотался в Москве. За все это время я ничего не успел прочесть, кроме множества наспех отпечатанных на газетной бумаге политических брошюр, отражавших непримиримую схватку партий. (…)
Из церкви слышалось старческое пение. Изредка тренькал на звоннице колокол.
― Уж и не знаем, ― сказал мне монашек, ― звонить или нет. Опасаемся. Как бы обиды не было от этого
для предержащих ныне властей. Вот и звоним чуть-чуть. Ворона сидит на звоннице ― так и та не слетает. Пожалуйте в храм.
Мы вошли в церковь. Горело всего три-четыре свечи. Старики в черных схимнических рясах с нашитыми на них белыми крестами и черепами не шевельнулись. Коричневой позолотой поблескивали во мраке узкие лица святителей. Горьковато пахло горелыми можжевеловыми ягодами,― ими монахи курили вместо ладана. Все как-то смешалось в сознании, ― древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, Москва, крест над могилой Лели, окопные завшивевшие солдаты, митинги, революция, марсельеза, Керенский, «Мир хижинам – война дворцам». Все это казалось пестрым сном, ― это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало в этой жизни уже привычкой.
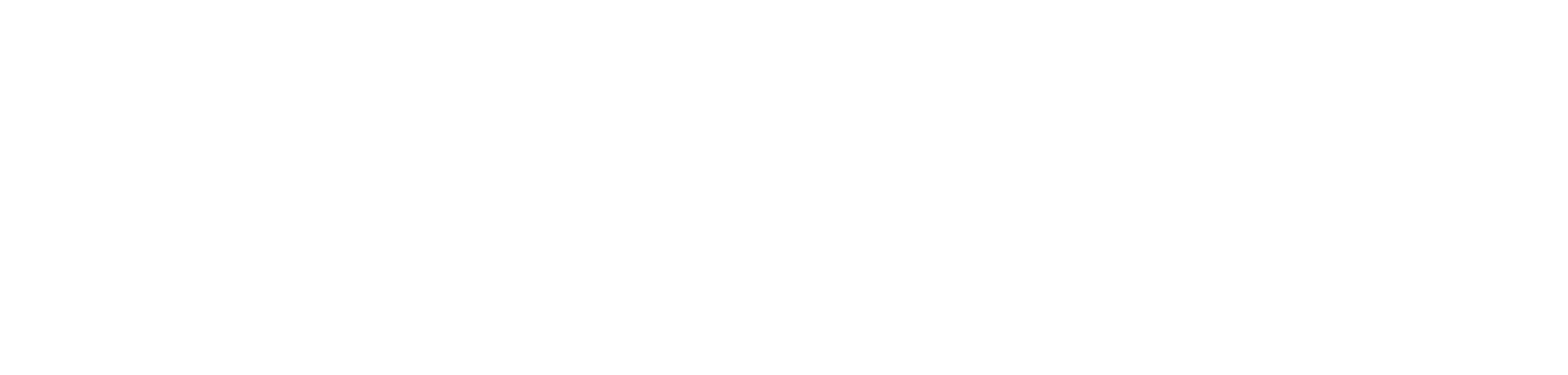
“
Все как-то смешалось в сознании, ― древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, Москва, крест над могилой Лели, окопные завшивевшие солдаты, митинги, революция, марсельеза, Керенский,
«Мир хижинам – война дворцам». Все это казалось пестрым сном, ― это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало
в этой жизни уже привычкой.
«Мир хижинам – война дворцам». Все это казалось пестрым сном, ― это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало
в этой жизни уже привычкой.
интервью с ректором
Архиепископ Верейский Евгений,
ректор Московской духовной академии
и семинарии
ректор Московской духовной академии
и семинарии
Дореволюционные духовные училища и семинарии были закрытыми сословными учебными
заведениями для детей духовного сословия. Фактически семинария для этой социальной группы
была единственным доступным способом получить среднее образование. Таким образом,
семинарии совмещали функции средней школы для детей духовного сословия (которые далеко
не всегда стремились к священству) и курсов подготовки священнослужителей, пастырской
школы. Сословные ограничения, а также проблемы образовательного процесса (практический
рационализм, слабость содержательного контента и принудительное «благочестие») нередко
приводили учащихся к неверию и нигилизму.
заведениями для детей духовного сословия. Фактически семинария для этой социальной группы
была единственным доступным способом получить среднее образование. Таким образом,
семинарии совмещали функции средней школы для детей духовного сословия (которые далеко
не всегда стремились к священству) и курсов подготовки священнослужителей, пастырской
школы. Сословные ограничения, а также проблемы образовательного процесса (практический
рационализм, слабость содержательного контента и принудительное «благочестие») нередко
приводили учащихся к неверию и нигилизму.
Ольга Бессарабова
Слушательница высших женских курсов
В.А. Полторацкой
В.А. Полторацкой
9 июня
Все нужно раздать. Оставить самые необходимые вещи, белье, одежду, книги. Хочу жить на даче это лето, среди чужих людей, чтобы видеть поменьше и, главное, для тишины. Устаю от количества лиц и разговоров кругом. Как бы не утопили Россию в разговорах. Тягостное ощущение призрачности и зыбкости всего на свете.
Терялось чувство реальности бытия, как бы забывала своих близких и любимых, не могла вспомнить отчетливо их лица. Архив казался совсем нереальным, каким-то выдуманным местом с ненужными делами. А менее всего реальна сама я, ощущение какой-то почти растворяемости. Если это не просто неврастения, а какое-то неосознанное участие современницы своего времени и жизни своей страны.
Я не умею сказать, как-то физически чувствую, разрушаются какие-то основы, устои, уклады жизни одного строя (лада, порядка, ох, как сказать точнее?) и пока еще не вижу или даже не начну сама действовать, что-то делать, хотя бы самое простое, но нужное для жизни, пока не начну участвовать в создании «нового порядка и уклада», вот и кружится голова. Неустойчивое равновесие.
Я знаю, чувствую, чую, что жизнь наша, моего окружения в моем времени сорвалась со своих дорог и путей и потеряно чувство равновесия. И чтобы не очутиться по ту сторону сознания, надо как можно спокойнее, добросовестнее, лучше, и теперь же, сразу, делать очередные дела, какие пододвигает жизнь.
27 июня
В Архив пришла «объятая ужасом». По Мясницкой улице с вокзала шла медленно и внимательно смотрела
на встречные лица. И не видела ни одного ясного, спокойного, свободного человеческого лица, какое должно быть у всех людей. Все, все — не свободные, все покорные: трудом, нуждой, грубостью, суетой, деньгами, фатовством, трамваями, сутолокой, заботами. Ни одной улыбки, ни одного взгляда не сумела я увидеть в таком множестве лиц. Невидящие лики. Или это я слепая? Что именно нужно мне было увидеть?
Меня как-то напугало, что из множества людей (от начала до конца Мясницкой) никто, ни один человек не взглянул ни на небо (утро чудное, как торжественный праздник), ни на землю — все бегут, бегут, бегут, как муравьи. А посмотрела в спину толпе — и спины то какие-то одинаковые, у каждого на плечах — своя заботушка, и бегут, бегут, бегут, как муравьи.
Все нужно раздать. Оставить самые необходимые вещи, белье, одежду, книги. Хочу жить на даче это лето, среди чужих людей, чтобы видеть поменьше и, главное, для тишины. Устаю от количества лиц и разговоров кругом. Как бы не утопили Россию в разговорах. Тягостное ощущение призрачности и зыбкости всего на свете.
Терялось чувство реальности бытия, как бы забывала своих близких и любимых, не могла вспомнить отчетливо их лица. Архив казался совсем нереальным, каким-то выдуманным местом с ненужными делами. А менее всего реальна сама я, ощущение какой-то почти растворяемости. Если это не просто неврастения, а какое-то неосознанное участие современницы своего времени и жизни своей страны.
Я не умею сказать, как-то физически чувствую, разрушаются какие-то основы, устои, уклады жизни одного строя (лада, порядка, ох, как сказать точнее?) и пока еще не вижу или даже не начну сама действовать, что-то делать, хотя бы самое простое, но нужное для жизни, пока не начну участвовать в создании «нового порядка и уклада», вот и кружится голова. Неустойчивое равновесие.
Я знаю, чувствую, чую, что жизнь наша, моего окружения в моем времени сорвалась со своих дорог и путей и потеряно чувство равновесия. И чтобы не очутиться по ту сторону сознания, надо как можно спокойнее, добросовестнее, лучше, и теперь же, сразу, делать очередные дела, какие пододвигает жизнь.
27 июня
В Архив пришла «объятая ужасом». По Мясницкой улице с вокзала шла медленно и внимательно смотрела
на встречные лица. И не видела ни одного ясного, спокойного, свободного человеческого лица, какое должно быть у всех людей. Все, все — не свободные, все покорные: трудом, нуждой, грубостью, суетой, деньгами, фатовством, трамваями, сутолокой, заботами. Ни одной улыбки, ни одного взгляда не сумела я увидеть в таком множестве лиц. Невидящие лики. Или это я слепая? Что именно нужно мне было увидеть?
Меня как-то напугало, что из множества людей (от начала до конца Мясницкой) никто, ни один человек не взглянул ни на небо (утро чудное, как торжественный праздник), ни на землю — все бегут, бегут, бегут, как муравьи. А посмотрела в спину толпе — и спины то какие-то одинаковые, у каждого на плечах — своя заботушка, и бегут, бегут, бегут, как муравьи.
мнение эксперта
Феликс Разумовский, публицист, телеведущий
Вообще у нас взгляд на события 1917 года ещё довольно незрелый. Этот взгляд сформировался
уже после большевистского переворота. По сути дела, это концепция большевистских идеологов
и историков, которая до сих пор не пересмотрена.
уже после большевистского переворота. По сути дела, это концепция большевистских идеологов
и историков, которая до сих пор не пересмотрена.
ИЮЛЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Жизнь в Петрограде становится все труднее. Беспорядки, убийства, голод и смерть стали обычными.
Мы ждем новых потрясений, зная, что они непременно будут. (…)
Началось. Днем третьего июля, когда крестьянский Совет заседал, нас вызвали в Таврический дворец
по телефону на совместное заседание с Советом рабочих и солдатских депутатов.
― Приезжайте как можно скорее, ― настоятельно просили нас. ― Большевики начали новый бунт.
Мы немедленно выехали. Улицы, прилегающие к дворцу, и площадь перед ним были забиты матросами
и солдатами. В кузове грузовика стоял Троцкий, разглагольствуя перед кронштадтскими отрядами:
― Вы, товарищи матросы, ― гордость и слава русской революции! Сейчас перед вами новая задача ― довести революцию до конца, создать царство коммунизма, диктатуру пролетариата и начать мировую революцию. Пусть дрожат наши враги! Никакой жалости, никакой пощады им! Соберите всю вашу ненависть. Уничтожьте их раз и навсегда!
Дикий звериный рев был ответом на эту речь.
На какой-то момент после его слов воцарилась полная тишина, затем раздались оглушительные аплодисменты. Вокруг себя я видел бледные лица депутатов, слышал пылкие слова: «Да, мы готовы умереть».
Окруженные разнузданной толпой, посреди пушечной и пулеметной стрельбы, охраняемые лишь двумя солдатами у дверей, члены Совета впервые поднялись до такого величия и благородства, когда человек
на самом деле готов победить или умереть. (...)
Никогда мне не забыть лиц в этой сумасшедшей толпе. Они потеряли весь человеческий облик, превратившись
в настоящие звериные морды. Толпа вопила, визжала и яростно грозила кулаками.
― Предатель Иуда!
― Враг народа!
― Смерть ему!
Я сумел перекричать шум:
― Что, моя смерть даст вам землю или наполнит пустые желудки?
Странно, но это вызвало у нескольких стоявших передо мной животных взрыв смеха. Так легко настроение толпы колебалось от одного к другому!
А в зале заседаний Думы продолжались речи, речи, речи... На рассвете некоторые члены Совета свалились и заснули от изнеможения. Другие, шатаясь от усталости, продолжали говорить. Толпа все еще стояла на улице, усилившись несколькими новыми воинскими подразделениями. Мятежные солдаты захватывали одну стратегическую позицию за другой. Стрельба звучала громче, чем ночью, и пули очень часто впивались в стены здания.
Измученный бессонной ночью, я снова вышел в дворцовый сад. Там я увидел три броневика. За нас или против? Конечно, против. Солдаты и матросы с винтовками толпились в саду.
Внезапно раздался громкий взрыв, и все эти доблестные вояки бросились ничком на землю. Панику вызвали сами большевики. Один из солдат уронил ручную гранату, убившую несколько человек. Вообразив, что их атакуют силы, поддерживающие правительство, большевистские пулеметчики открыли беспорядочный огонь, убив еще больше людей. После чего некоторые бунтовщики решили разойтись по домам.
Мы ждем новых потрясений, зная, что они непременно будут. (…)
Началось. Днем третьего июля, когда крестьянский Совет заседал, нас вызвали в Таврический дворец
по телефону на совместное заседание с Советом рабочих и солдатских депутатов.
― Приезжайте как можно скорее, ― настоятельно просили нас. ― Большевики начали новый бунт.
Мы немедленно выехали. Улицы, прилегающие к дворцу, и площадь перед ним были забиты матросами
и солдатами. В кузове грузовика стоял Троцкий, разглагольствуя перед кронштадтскими отрядами:
― Вы, товарищи матросы, ― гордость и слава русской революции! Сейчас перед вами новая задача ― довести революцию до конца, создать царство коммунизма, диктатуру пролетариата и начать мировую революцию. Пусть дрожат наши враги! Никакой жалости, никакой пощады им! Соберите всю вашу ненависть. Уничтожьте их раз и навсегда!
Дикий звериный рев был ответом на эту речь.
На какой-то момент после его слов воцарилась полная тишина, затем раздались оглушительные аплодисменты. Вокруг себя я видел бледные лица депутатов, слышал пылкие слова: «Да, мы готовы умереть».
Окруженные разнузданной толпой, посреди пушечной и пулеметной стрельбы, охраняемые лишь двумя солдатами у дверей, члены Совета впервые поднялись до такого величия и благородства, когда человек
на самом деле готов победить или умереть. (...)
Никогда мне не забыть лиц в этой сумасшедшей толпе. Они потеряли весь человеческий облик, превратившись
в настоящие звериные морды. Толпа вопила, визжала и яростно грозила кулаками.
― Предатель Иуда!
― Враг народа!
― Смерть ему!
Я сумел перекричать шум:
― Что, моя смерть даст вам землю или наполнит пустые желудки?
Странно, но это вызвало у нескольких стоявших передо мной животных взрыв смеха. Так легко настроение толпы колебалось от одного к другому!
А в зале заседаний Думы продолжались речи, речи, речи... На рассвете некоторые члены Совета свалились и заснули от изнеможения. Другие, шатаясь от усталости, продолжали говорить. Толпа все еще стояла на улице, усилившись несколькими новыми воинскими подразделениями. Мятежные солдаты захватывали одну стратегическую позицию за другой. Стрельба звучала громче, чем ночью, и пули очень часто впивались в стены здания.
Измученный бессонной ночью, я снова вышел в дворцовый сад. Там я увидел три броневика. За нас или против? Конечно, против. Солдаты и матросы с винтовками толпились в саду.
Внезапно раздался громкий взрыв, и все эти доблестные вояки бросились ничком на землю. Панику вызвали сами большевики. Один из солдат уронил ручную гранату, убившую несколько человек. Вообразив, что их атакуют силы, поддерживающие правительство, большевистские пулеметчики открыли беспорядочный огонь, убив еще больше людей. После чего некоторые бунтовщики решили разойтись по домам.
“
Окруженные разнузданной толпой, посреди пушечной и пулеметной стрельбы, охраняемые лишь двумя солдатами у дверей, члены Совета впервые поднялись до такого величия и благородства, когда человек на самом деле готов победить или умереть.
В пять часов дня Совет собрался снова, пришли и большевики со своими последователями. Они знали, что настал момент, когда они должны либо победить, либо быть побежденными. И для победы они были готовы прибегнуть к крайним средствам силового давления.
Но когда один из них выкрикивал с трибуны кровавые угрозы, дверь распахнулась и три офицера в серой от пыли форме, со следами дорожной грязи на сапогах, вошли в зал и направились к Чхеидзе. Отдав ему честь, они повернулись и старший офицер обратился к большевикам с такими словами:
― В то время как русская армия кладет все силы на защиту страны от врага, вы, солдаты и матросы, никогда не видевшие войны, бездельники и предатели, специалисты по мыльным пузырям, авантюристы и ренегаты, что делаете вы здесь? Вместо того чтобы драться с врагом, как подобает мужчинам, вы убиваете мирных граждан, организуете заговоры, помогаете врагам и встречаете нас, воинов великой русской армии, пулеметами и пушками. Какая низость! Но все ваше предательство напрасно. Я, командир полка велосипедистов, докладываю, что мои подразделения вошли в Петроград. Бунтовщики рассеяны. Их пулеметы в наших руках. Ваши бойцы, храбрые против невооруженных горожан, встретив настоящих солдат, бежали как трусы, каковыми, впрочем, и являются. И обещаю вам, что всех, кто сделает хотя бы попытку продолжить или начать заново этот бунт, мы перестреляем как собак.
Повернувшись к председателю и козырнув ему еще раз, он добавил:
― Имею честь доложить, что мы находимся в распоряжении правительства и Совета и ждем указаний.
Взрыв бомбы вряд ли произвел бы такой эффект, как эта речь.
Бешеные, радостные аплодисменты, с одной стороны, вопли, стоны, проклятия ― с другой.
Троцкого, Луначарского, Гиммера, Каца и Зиновьева корежило, по выражению моего товарища, как чертей
от святой воды. Один из них сделал попытку что-то сказать, но ему сразу же заткнули рот.
― Вон отсюда! Убирайтесь! ― кричали члены Совета, и большевики со своими приспешниками ушли.
Полчаса спустя военная музыка зазвучала в залах и коридорах дворца, два полка в полном вооружении приняли под охрану Думу. Большевики определенно потерпели поражение, и силы порядка победили вновь. Когда толпы были быстро рассеяны, мятежных солдат арестовали и разоружили. Около двух часов утра я добрался домой, свалился на кровать и тотчас же заснул. (…)
Выработка закона о выборах в Учредительное собрание практически закончена. Проект закона очень демократичен, предусматривает полное и пропорциональное представительство всего населения ― но мне кажется, что он также годится доя современной России, как вечернее платье для прогулки на лошади.
Но когда один из них выкрикивал с трибуны кровавые угрозы, дверь распахнулась и три офицера в серой от пыли форме, со следами дорожной грязи на сапогах, вошли в зал и направились к Чхеидзе. Отдав ему честь, они повернулись и старший офицер обратился к большевикам с такими словами:
― В то время как русская армия кладет все силы на защиту страны от врага, вы, солдаты и матросы, никогда не видевшие войны, бездельники и предатели, специалисты по мыльным пузырям, авантюристы и ренегаты, что делаете вы здесь? Вместо того чтобы драться с врагом, как подобает мужчинам, вы убиваете мирных граждан, организуете заговоры, помогаете врагам и встречаете нас, воинов великой русской армии, пулеметами и пушками. Какая низость! Но все ваше предательство напрасно. Я, командир полка велосипедистов, докладываю, что мои подразделения вошли в Петроград. Бунтовщики рассеяны. Их пулеметы в наших руках. Ваши бойцы, храбрые против невооруженных горожан, встретив настоящих солдат, бежали как трусы, каковыми, впрочем, и являются. И обещаю вам, что всех, кто сделает хотя бы попытку продолжить или начать заново этот бунт, мы перестреляем как собак.
Повернувшись к председателю и козырнув ему еще раз, он добавил:
― Имею честь доложить, что мы находимся в распоряжении правительства и Совета и ждем указаний.
Взрыв бомбы вряд ли произвел бы такой эффект, как эта речь.
Бешеные, радостные аплодисменты, с одной стороны, вопли, стоны, проклятия ― с другой.
Троцкого, Луначарского, Гиммера, Каца и Зиновьева корежило, по выражению моего товарища, как чертей
от святой воды. Один из них сделал попытку что-то сказать, но ему сразу же заткнули рот.
― Вон отсюда! Убирайтесь! ― кричали члены Совета, и большевики со своими приспешниками ушли.
Полчаса спустя военная музыка зазвучала в залах и коридорах дворца, два полка в полном вооружении приняли под охрану Думу. Большевики определенно потерпели поражение, и силы порядка победили вновь. Когда толпы были быстро рассеяны, мятежных солдат арестовали и разоружили. Около двух часов утра я добрался домой, свалился на кровать и тотчас же заснул. (…)
Выработка закона о выборах в Учредительное собрание практически закончена. Проект закона очень демократичен, предусматривает полное и пропорциональное представительство всего населения ― но мне кажется, что он также годится доя современной России, как вечернее платье для прогулки на лошади.
Ольга Бессарабова
Слушательница высших женских курсов
В.А. Полторацкой
В.А. Полторацкой
18 июля (5 июля)
Странное и тяжелое впечатление от вчерашних лиц, голосов толпы. Таких не было во всех прошлых чудесных митинговых ночах. Также вот тогда терялись, растворялись, а может быть, и просто не показывались, а сейчас будто выползли со всех сторон и представились, что они люди. (...)
Тогда были страстные фанатики, путаники, патриоты, социал-революционеры, социал-демократы, конституционные демократы, большевики, меньшевики, длинноволосые юноши и стриженые женщины с резкими и хриплыми голосами, жестами. Все были заняты, задеты событиями, речами. А вчера, праздная, жадная до зрелищ и до острых ощущений, какая-то голодная или опустошенная (душевно) толпа. Вдруг мне показалось, что от толпы идет запах тления и какие-то темные эмоции. Как будто расплескалось на город что-нибудь такое, похожее на собиравшихся в ночной чайной.
На Никитском бульваре запомнился один мертвенно-коричневый старик без волос и без ресниц с бриллиантами на руках, весь подтянутый корсетом, слишком выпрямленный, окруженный четырьмя юношами. Юноши ярко накрашенные, один очень набелен, без румянца, но с очень яркими губами — почти черными от краски, с завитыми волосами.
— Шура, что это такое? Скорей домой. Не хочу видеть этих всех людей.
Страшно было видеть нескольких людей с острым блеском расширенных глаз (бывает так, кажется, от кокаина), атмосфера острой жадности и праздности. (...)
Душно, пыльно. И количество, количество людское, копошится, толчется, кишит в тесноте, духоте и напряженности какой-то. Мне вдруг стало непереносимо жаль всех, всех их — все дети своих матерей, все люди. Никого не боюсь, бедняги, и больше ничего. Значит, никого уже на свете нет, если подходят к чужим людям, к женщинам.
Странное и тяжелое впечатление от вчерашних лиц, голосов толпы. Таких не было во всех прошлых чудесных митинговых ночах. Также вот тогда терялись, растворялись, а может быть, и просто не показывались, а сейчас будто выползли со всех сторон и представились, что они люди. (...)
Тогда были страстные фанатики, путаники, патриоты, социал-революционеры, социал-демократы, конституционные демократы, большевики, меньшевики, длинноволосые юноши и стриженые женщины с резкими и хриплыми голосами, жестами. Все были заняты, задеты событиями, речами. А вчера, праздная, жадная до зрелищ и до острых ощущений, какая-то голодная или опустошенная (душевно) толпа. Вдруг мне показалось, что от толпы идет запах тления и какие-то темные эмоции. Как будто расплескалось на город что-нибудь такое, похожее на собиравшихся в ночной чайной.
На Никитском бульваре запомнился один мертвенно-коричневый старик без волос и без ресниц с бриллиантами на руках, весь подтянутый корсетом, слишком выпрямленный, окруженный четырьмя юношами. Юноши ярко накрашенные, один очень набелен, без румянца, но с очень яркими губами — почти черными от краски, с завитыми волосами.
— Шура, что это такое? Скорей домой. Не хочу видеть этих всех людей.
Страшно было видеть нескольких людей с острым блеском расширенных глаз (бывает так, кажется, от кокаина), атмосфера острой жадности и праздности. (...)
Душно, пыльно. И количество, количество людское, копошится, толчется, кишит в тесноте, духоте и напряженности какой-то. Мне вдруг стало непереносимо жаль всех, всех их — все дети своих матерей, все люди. Никого не боюсь, бедняги, и больше ничего. Значит, никого уже на свете нет, если подходят к чужим людям, к женщинам.
КОНТЕКСТ
СВЯТЫЕ СТУДЕНТЫ РЕВОЛЮЦИИ
интервью с ректором
Архиепископ Петергофский Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской духовной
академии и семинарии
ректор Санкт-Петербургской духовной
академии и семинарии
Для будущих священников политика, конечно, не должна стоять во главе угла. Нам нужно быть хорошими гражданами своего Отечества, и помнить то, что говорил об этом Христос: воздайте
кесарю кесарево, а Божие — Богу.
кесарю кесарево, а Божие — Богу.
АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Люди бегут из Петрограда тысячами, и действительно, чего бы они оставались в городе, столкнувшись с голодом и убийствами, делом рук большевистских орд?
― Советую тебе тоже уехать, ― сказал мне друг, которого я провожал на вокзал.
― Уезжай как можно скорее, иначе скоро будет поздно.
26 августа генерал Корнилов двинул армию на Петроград с намерением свергнуть Совет и правительство и стать диктатором. Такова, по крайней мере, была версия Керенского, но мне Корнилов представлялся не таким большим грешником, как министру-председателю.
Я хорошо знал взаимоотношения Керенского и Корнилова задолго до их окончательного разрыва. Группа прокорниловских несоциалистов находилась в полной оппозиции к правительству Керенского, которое они обвиняли в быстром развале России. Керенский, со своей стороны, характеризовал Корнилова и его сторонников как государственных изменников. Для защиты от большевиков после июльских событий были созданы новые силы, но вместо объединения перед лицом общего врага армия патриотов разделилась на три лагеря. Большевики были вне себя от радости. Чего еще они могли просить у судьбы?
Теперь триумф большевизма ― это лишь вопрос времени. Правительство, потеряв уважение всех несоциалистических групп, отныне висело на волоске и его падение стало неизбежным.
― Советую тебе тоже уехать, ― сказал мне друг, которого я провожал на вокзал.
― Уезжай как можно скорее, иначе скоро будет поздно.
26 августа генерал Корнилов двинул армию на Петроград с намерением свергнуть Совет и правительство и стать диктатором. Такова, по крайней мере, была версия Керенского, но мне Корнилов представлялся не таким большим грешником, как министру-председателю.
Я хорошо знал взаимоотношения Керенского и Корнилова задолго до их окончательного разрыва. Группа прокорниловских несоциалистов находилась в полной оппозиции к правительству Керенского, которое они обвиняли в быстром развале России. Керенский, со своей стороны, характеризовал Корнилова и его сторонников как государственных изменников. Для защиты от большевиков после июльских событий были созданы новые силы, но вместо объединения перед лицом общего врага армия патриотов разделилась на три лагеря. Большевики были вне себя от радости. Чего еще они могли просить у судьбы?
Теперь триумф большевизма ― это лишь вопрос времени. Правительство, потеряв уважение всех несоциалистических групп, отныне висело на волоске и его падение стало неизбежным.
интервью с ректором
Игумен Евфимий,
первый проректор Казанской духовной семинарии
первый проректор Казанской духовной семинарии
А если мы узнаем, что наши студенты вместо занятий пошли на какой-то митинг, мы отнесемся
к этому очень спокойно. Если же это будет повторяться, то попросту отчислим.
к этому очень спокойно. Если же это будет повторяться, то попросту отчислим.
ОКТЯБРЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Пучина наконец-то разверзлась. Большевизм победил. Это было очень просто. Временное правительство
и первый Всероссийский Совет были свержены так же легко, как и царский режим. Через свои военно-революционные комитеты большевики захватили контроль над воинскими частями. С помощью Петроградского Совета подчинили себе рабочий класс. Эти солдаты и петроградские рабочие захватили все автомобили на улицах, заняли Зимний дворец, Петропавловскую крепость, вокзалы, телефонные станции и почтамт. Чтобы уничтожить предыдущее правительство и образовать новое, потребовались всего лишь 24 часа.
— Это возмутительно! — бушевал социал-демократический депутат. — Мы будем протестовать против такого насилия.
— Что? Мы собираемся родить еще одну резолюцию? — спросил я.
— Именем Петроградского Совета, Совета Республики и правительства мы обратимся к стране и мировой демократической общественности, — ответил он, обидевшись на мое «легкомыслие».
— И что это будет, как не еще одна резолюция? — поддразнил его я.
— Мы обратимся к вооруженным силам!
— Каким вооруженным силам?
— Офицеры и казаки еще верны правительству.
— То есть те, кого революционные демократы считали контрреволюционерами и реакционерами? — настаивал я. — Разве вы забыли, какой удар нанесли по ним, особенно после провала корниловского мятежа? После всего этого как вы представляете себе, хотят ли они защищать нас? Думаю, напротив, они даже будут весьма, довольны тем, что должно произойти.
Осажденных в Зимнем министров после штурма дворца не убили, а бросили в Петропавловскую крепость
к царским министрам. Но судьба женского батальона была много хуже, чем мы можем себе представить. Большое количество защитниц Зимнего было убито, а тех, кто избежал смерти, зверски изнасиловали большевики. Некоторые не выдерживали этого и умирали в страшных мучениях. Некоторых чиновников Временного правительства также убили с садистской жестокостью. ( …)
Наше домашнее меню стало, мягко говоря, экзотическим. Нет хлеба, но вчера в маленькой лавке мы нашли несколько банок консервированных персиков. Вместо хлеба испекли «печенье» из картофельной кожуры,
и оказалось, что это вполне можно прожевать. Да здравствует революция, стимулирующая изобретательность и заставляющая людей быть более скромными в своих аппетитах и желаниях!
и первый Всероссийский Совет были свержены так же легко, как и царский режим. Через свои военно-революционные комитеты большевики захватили контроль над воинскими частями. С помощью Петроградского Совета подчинили себе рабочий класс. Эти солдаты и петроградские рабочие захватили все автомобили на улицах, заняли Зимний дворец, Петропавловскую крепость, вокзалы, телефонные станции и почтамт. Чтобы уничтожить предыдущее правительство и образовать новое, потребовались всего лишь 24 часа.
— Это возмутительно! — бушевал социал-демократический депутат. — Мы будем протестовать против такого насилия.
— Что? Мы собираемся родить еще одну резолюцию? — спросил я.
— Именем Петроградского Совета, Совета Республики и правительства мы обратимся к стране и мировой демократической общественности, — ответил он, обидевшись на мое «легкомыслие».
— И что это будет, как не еще одна резолюция? — поддразнил его я.
— Мы обратимся к вооруженным силам!
— Каким вооруженным силам?
— Офицеры и казаки еще верны правительству.
— То есть те, кого революционные демократы считали контрреволюционерами и реакционерами? — настаивал я. — Разве вы забыли, какой удар нанесли по ним, особенно после провала корниловского мятежа? После всего этого как вы представляете себе, хотят ли они защищать нас? Думаю, напротив, они даже будут весьма, довольны тем, что должно произойти.
Осажденных в Зимнем министров после штурма дворца не убили, а бросили в Петропавловскую крепость
к царским министрам. Но судьба женского батальона была много хуже, чем мы можем себе представить. Большое количество защитниц Зимнего было убито, а тех, кто избежал смерти, зверски изнасиловали большевики. Некоторые не выдерживали этого и умирали в страшных мучениях. Некоторых чиновников Временного правительства также убили с садистской жестокостью. ( …)
Наше домашнее меню стало, мягко говоря, экзотическим. Нет хлеба, но вчера в маленькой лавке мы нашли несколько банок консервированных персиков. Вместо хлеба испекли «печенье» из картофельной кожуры,
и оказалось, что это вполне можно прожевать. Да здравствует революция, стимулирующая изобретательность и заставляющая людей быть более скромными в своих аппетитах и желаниях!
интервью с ректором
Архимандрит Симеон,
ректор Курской духовной семинарии
ректор Курской духовной семинарии
Стоит вспомнить не только исключенных из семинарий Сталина или Петлюру, но и таких
знаменитых на светском поприще людей, окончивших семинарию, как государственный деятель
Михаил Михайлович Сперанский, физиолог Иван Петрович Павлов, историк Василий Осипович
Ключевский, художник Виктор Михайлович Васнецов и других.
знаменитых на светском поприще людей, окончивших семинарию, как государственный деятель
Михаил Михайлович Сперанский, физиолог Иван Петрович Павлов, историк Василий Осипович
Ключевский, художник Виктор Михайлович Васнецов и других.
Константин Паустовский
Студент Московского университета,
вынужденно прервал обучение в 1914 году
вынужденно прервал обучение в 1914 году
Я проснулся в своей комнате на втором этаже от странного ощущения, будто кто-то мгновенно выдавил из нее весь воздух. От этого ощущения я на несколько секунд оглох. Я вскочил. Пол был засыпан осколками оконных стекол. Они блестели в свете высокого и туманного месяца, влачившегося над уснувшей Москвой.
Глубокая тишина стояла вокруг. Потом раздался короткий гром. Нарастающий резкий вой пронесся на уровне выбитых окон, и тотчас с длинным грохотом обрушился угол дома у Никитских ворот. В первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкину. Выяснилось это позже. После второго выстрела снова вернулась тишина. Месяц все так же внимательно смотрел с туманных ночных небес на разбитые стекла на полу. Через несколько минут у Никитских ворот длинно забил пулемет. Так начался в Москве октябрьский бой, или, как тогда говорили, «октябрьский переворот». Он длился несколько дней.
В ответ на пулеметный огонь разгорелась винтовочная пальба. Пуля чмокнула в стену и прострелила портрет Чехова. Потом я нашел этот портрет под обвалившейся штукатуркой. Пуля попала Чехову в грудь и прорвала белый пикейный жилет.
Перестрелка трещала, как горящий валежник. Пули густо цокали по железным крышам. Мой квартирный хозяин, пожилой вдовец архитектор, крикнул мне, чтобы я шел к нему в задние комнаты. Они выходили окнами во двор.
Там на полу сидели две маленькие девочки и старая няня. Старуха закрыла девочек с головой теплым платком.
— Здесь безопасно, — сказал хозяин. — Пули вряд ли пробьют внутренние стены.
Старшая девочка спросила из-под платка:
— Папа, это немцы напали на Москву?
— Никаких немцев нет.
— А кто же стреляет?
— Замолчи! — прикрикнул отец.
Я вернулся в свою комнату и, прижавшись к простенку, заглянул наискось в окно. Месяц затянуло черными тучами. Громады домов с погашенными огнями едва угадывались во мраке. Беспрестанно вспыхивали огни выстрелов и на разные голоса пели пули. То это был тонкий свист, то визг, то странный клекочущий звук, будто пули кувыркались в воздухе.
Я пытался увидеть людей, но вспышки выстрелов не давали для этого достаточно света. Судя по огню, красногвардейцы, наступавшие от Страстной площади, дошли уже до половины бульвара, где стоял деревянный вычурный павильон летнего ресторана. Юнкера залегли на площади у Никитских ворот.
Внезапно под окнами с тихим гулом загорелся, качаясь на ветру, высокий синий язык огня. Он был похож на факел. В его мертвенном свете стали наконец видны люди, перебегавшие от дерева к дереву. Вскоре второй синий факел вспыхнул на противоположной стороне бульвара. Это пули разбили горелки газовых фонарей, и горящий газ начал вырываться прямо из труб. При его мигающем свете огонь тотчас усилился.
Я вернулся к хозяину.
— Надо уводить отсюда детей.
Мы спустились по черной лестнице в квадратный двор. Здесь пули пели высоко и только кое-где обваливались отбитые карнизы. В глубине двора около маленькой дворницкой стояло несколько человек.
Глубокая тишина стояла вокруг. Потом раздался короткий гром. Нарастающий резкий вой пронесся на уровне выбитых окон, и тотчас с длинным грохотом обрушился угол дома у Никитских ворот. В первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкину. Выяснилось это позже. После второго выстрела снова вернулась тишина. Месяц все так же внимательно смотрел с туманных ночных небес на разбитые стекла на полу. Через несколько минут у Никитских ворот длинно забил пулемет. Так начался в Москве октябрьский бой, или, как тогда говорили, «октябрьский переворот». Он длился несколько дней.
В ответ на пулеметный огонь разгорелась винтовочная пальба. Пуля чмокнула в стену и прострелила портрет Чехова. Потом я нашел этот портрет под обвалившейся штукатуркой. Пуля попала Чехову в грудь и прорвала белый пикейный жилет.
Перестрелка трещала, как горящий валежник. Пули густо цокали по железным крышам. Мой квартирный хозяин, пожилой вдовец архитектор, крикнул мне, чтобы я шел к нему в задние комнаты. Они выходили окнами во двор.
Там на полу сидели две маленькие девочки и старая няня. Старуха закрыла девочек с головой теплым платком.
— Здесь безопасно, — сказал хозяин. — Пули вряд ли пробьют внутренние стены.
Старшая девочка спросила из-под платка:
— Папа, это немцы напали на Москву?
— Никаких немцев нет.
— А кто же стреляет?
— Замолчи! — прикрикнул отец.
Я вернулся в свою комнату и, прижавшись к простенку, заглянул наискось в окно. Месяц затянуло черными тучами. Громады домов с погашенными огнями едва угадывались во мраке. Беспрестанно вспыхивали огни выстрелов и на разные голоса пели пули. То это был тонкий свист, то визг, то странный клекочущий звук, будто пули кувыркались в воздухе.
Я пытался увидеть людей, но вспышки выстрелов не давали для этого достаточно света. Судя по огню, красногвардейцы, наступавшие от Страстной площади, дошли уже до половины бульвара, где стоял деревянный вычурный павильон летнего ресторана. Юнкера залегли на площади у Никитских ворот.
Внезапно под окнами с тихим гулом загорелся, качаясь на ветру, высокий синий язык огня. Он был похож на факел. В его мертвенном свете стали наконец видны люди, перебегавшие от дерева к дереву. Вскоре второй синий факел вспыхнул на противоположной стороне бульвара. Это пули разбили горелки газовых фонарей, и горящий газ начал вырываться прямо из труб. При его мигающем свете огонь тотчас усилился.
Я вернулся к хозяину.
— Надо уводить отсюда детей.
Мы спустились по черной лестнице в квадратный двор. Здесь пули пели высоко и только кое-где обваливались отбитые карнизы. В глубине двора около маленькой дворницкой стояло несколько человек.
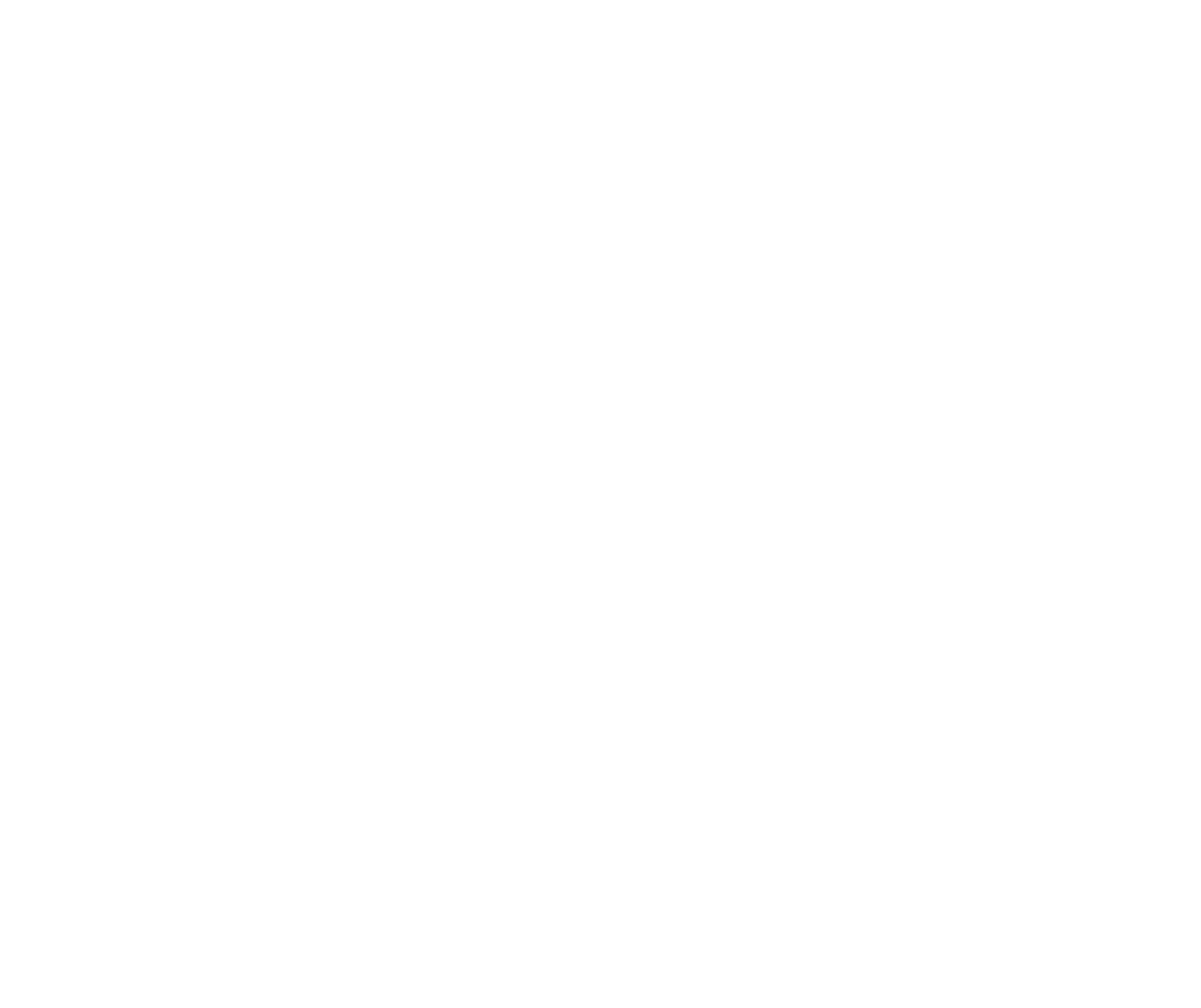
Оказалось, что в Леонтьевском переулке огонь был еще сильнее, чем на Тверском бульваре. С четвертой стороны нашего двора вздымался брандмауэр соседнего дома. В нем не было ни одного окна.
Архитектор посмотрел на брандмауэр и выругался.
— Западня, — сказал он. — Наш дом обложен со всех сторон. Выйти некуда. Мы попали в мертвую полосу.
Уже светало. Люди около дворницкой оказались пекарями из булочной Бартельса, бывшей в этом же доме.
Белый от муки бородатый пекарь — порт-артурский солдат – предложил перевести всех жильцов в дворницкую — самое безопасное место.
Жильцов было очень немного, — весь первый этаж дома занимали магазины и склады.
Так началось многодневное сидение в дворницкой.
Один из пекарей, молодой парень, решил перебежать к красногвардейцам. Как только он выскочил, пригнувшись, из подворотни на тротуар, его срезала пулеметная очередь от Никольских ворот. Сидя в дворницкой, мы перебирали в памяти предыдущие дни и удивлялись своей недогадливости. Бой возник для нас как будто внезапно. А между тем мы знали о восстании в Петрограде, штурме Зимнего дворца, выстреле «Авроры», о том, что в Москве было объявлено военное положение, что на Ходынке накапливались хорошо вооруженные отряды красногвардейцев и солдат и что Алексеевское и Александровское военные училища были приведены в боевую готовность.
Команду над нашим домом принял пекарь порт-артурец. Из крана в дворницкой жидкой струйкой текла вода. Пекарь приказал собрать по квартирам все ведра и кувшины и сделать запас воды. Она каждую минуту могла иссякнуть. Потом мы собрали весь хлеб и продукты. Их оказалось немного.
Мы не знали, что делается вокруг, и были уверены, что бой идет по всей Москве. Мы только понимали, что очутились в осаде и живем как в крепости, охваченной кольцом огня. Но крепость эта была ненадежной. Уже к концу первого дня пули начали залетать во двор.
Всю первую ночь мы просидели на ступеньках дворницкой, стараясь по силе огня догадаться, кто берет верх.
Внезапно среди ночи огонь стих. Все насторожились. Эта тишина казалась опаснее, чем ураганный огонь. Но тянулась она недолго. Вскоре мы услышали в кромешном мраке отдаленные протяжные крики: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!»
Крик становился все торопливее, тревожнее: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!»
Сразу сорвался огонь, и свинцовый град снова захлестал по водосточным трубам и вывескам.
К вечеру второго дня загорелся дом «на стрелке», где была аптека. Он горел разноцветным пламенем — то желтым, то зеленым и синим, очевидно, от медикаментов. Глухие взрывы ухали в его подвалах. От этих взрывов дом быстро обрушился. Пламя упало, но едкий разноцветный дым клубился над пожарищем еще несколько дней.
— Эй вы, темляки-сопляки! — кричали красногвардейцы. — Хватит дурить! Бросай оружие!
— У нас присяга, — кричали в ответ юнкера.
— Кому присягали? Керенскому? Он, сукин кот, удрал к немцам.
— России мы присягали, а не Керенскому!
— А мы и есть Россия! — кричали красногвардейцы. (…)
Архитектор посмотрел на брандмауэр и выругался.
— Западня, — сказал он. — Наш дом обложен со всех сторон. Выйти некуда. Мы попали в мертвую полосу.
Уже светало. Люди около дворницкой оказались пекарями из булочной Бартельса, бывшей в этом же доме.
Белый от муки бородатый пекарь — порт-артурский солдат – предложил перевести всех жильцов в дворницкую — самое безопасное место.
Жильцов было очень немного, — весь первый этаж дома занимали магазины и склады.
Так началось многодневное сидение в дворницкой.
Один из пекарей, молодой парень, решил перебежать к красногвардейцам. Как только он выскочил, пригнувшись, из подворотни на тротуар, его срезала пулеметная очередь от Никольских ворот. Сидя в дворницкой, мы перебирали в памяти предыдущие дни и удивлялись своей недогадливости. Бой возник для нас как будто внезапно. А между тем мы знали о восстании в Петрограде, штурме Зимнего дворца, выстреле «Авроры», о том, что в Москве было объявлено военное положение, что на Ходынке накапливались хорошо вооруженные отряды красногвардейцев и солдат и что Алексеевское и Александровское военные училища были приведены в боевую готовность.
Команду над нашим домом принял пекарь порт-артурец. Из крана в дворницкой жидкой струйкой текла вода. Пекарь приказал собрать по квартирам все ведра и кувшины и сделать запас воды. Она каждую минуту могла иссякнуть. Потом мы собрали весь хлеб и продукты. Их оказалось немного.
Мы не знали, что делается вокруг, и были уверены, что бой идет по всей Москве. Мы только понимали, что очутились в осаде и живем как в крепости, охваченной кольцом огня. Но крепость эта была ненадежной. Уже к концу первого дня пули начали залетать во двор.
Всю первую ночь мы просидели на ступеньках дворницкой, стараясь по силе огня догадаться, кто берет верх.
Внезапно среди ночи огонь стих. Все насторожились. Эта тишина казалась опаснее, чем ураганный огонь. Но тянулась она недолго. Вскоре мы услышали в кромешном мраке отдаленные протяжные крики: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!»
Крик становился все торопливее, тревожнее: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!»
Сразу сорвался огонь, и свинцовый град снова захлестал по водосточным трубам и вывескам.
К вечеру второго дня загорелся дом «на стрелке», где была аптека. Он горел разноцветным пламенем — то желтым, то зеленым и синим, очевидно, от медикаментов. Глухие взрывы ухали в его подвалах. От этих взрывов дом быстро обрушился. Пламя упало, но едкий разноцветный дым клубился над пожарищем еще несколько дней.
— Эй вы, темляки-сопляки! — кричали красногвардейцы. — Хватит дурить! Бросай оружие!
— У нас присяга, — кричали в ответ юнкера.
— Кому присягали? Керенскому? Он, сукин кот, удрал к немцам.
— России мы присягали, а не Керенскому!
— А мы и есть Россия! — кричали красногвардейцы. (…)
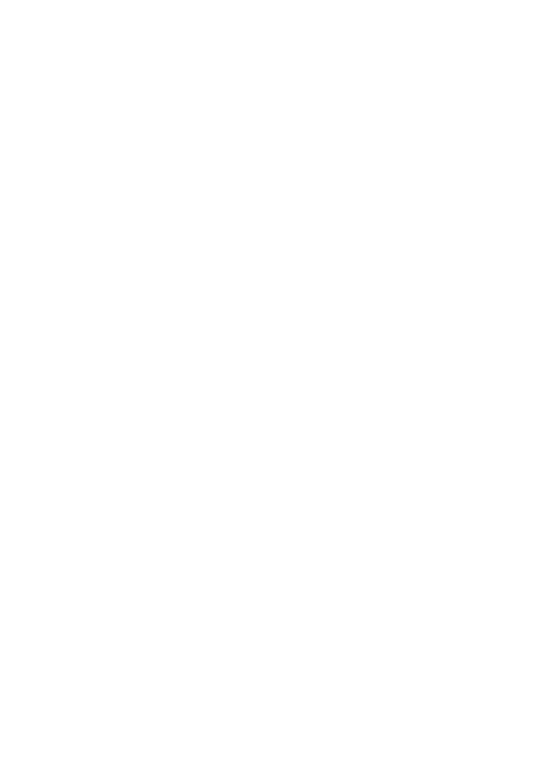
В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара
до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камни мостовой.
На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь
до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камни мостовой.
На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь
На пятый день кончились продукты. В нашем доме был маленький гастрономический магазин. Ничего больше не оставалось, как взломать его.
До сих пор я помню этот магазин. На проволоке висели обернутые в серебряную бумагу копченые колбасы. Красные круглые сыры на прилавке были обильно политы хреном из разбитых пулями банок.
На полу стояли едкие лужи из уксуса, смешанного с коньяком и ликером. В этих лужах плавали твердые, покрытые рыжеватым налетом маринованные белые грибы. Большая фаянсовая бочка из-под грибов была расколота вдребезги. Я быстро сорвал несколько длинных колбас и навалил их на руки, как дрова. Сверху я положил круглый, как колесо, толстый швейцарский сыр и несколько банок с консервами.
Когда я бежал обратно через двор, что-то зазвенело у меня под руками, но я не обратил на это внимания.
Я вошел в дворницкую, и единственная женщина, оставшаяся с нами, жена дворника, бледная и болезненная, вдруг дико закричала. Я сбросил на пол продукты и увидел, что руки у меня облиты густой кровью. Через минуту все в дворницкой повалились от хохота, хотя обстановка никак не располагала к этому. Все хохотали и соскабливали с меня густое томатное пюре.
Когда я бежал обратно, стрелок все же успел выстрелить, пуля пробила банку с консервами, и меня всего залило кроваво-красным томатом.
Хлеба у нас не было ни крошки. Острый сыр, копченые колбасы и консервы с перцем мы ели без хлеба
и запивали холодной водопроводной водой.
Мой хозяин вспомнил, что у него на кухне остался мешок черных сухарей. Я вызвался пойти за ними.
Я осторожно поднялся по черной лестнице, заваленной битым кирпичом. В кухне из простреленной водопроводной трубы текла вода, и на полу стояла густая жижа размокшей штукатурки.
Я начал шарить в буфете, разыскивая сухари. В это время с бульвара послышались крики и топот ног.
Я пошел в свою комнату, чтобы посмотреть, что случилось. По бульвару цепью бежали с винтовками наперевес красногвардейцы. Юнкера отходили, не отстреливаясь.
Впервые я видел бой так близко, под самым окном своей комнаты. Меня поразили лица людей — зеленые, с ввалившимися глазами. Мне казалось, что эти люди ничего не видят и не понимают, оглушенные собственным криком.
До сих пор я помню этот магазин. На проволоке висели обернутые в серебряную бумагу копченые колбасы. Красные круглые сыры на прилавке были обильно политы хреном из разбитых пулями банок.
На полу стояли едкие лужи из уксуса, смешанного с коньяком и ликером. В этих лужах плавали твердые, покрытые рыжеватым налетом маринованные белые грибы. Большая фаянсовая бочка из-под грибов была расколота вдребезги. Я быстро сорвал несколько длинных колбас и навалил их на руки, как дрова. Сверху я положил круглый, как колесо, толстый швейцарский сыр и несколько банок с консервами.
Когда я бежал обратно через двор, что-то зазвенело у меня под руками, но я не обратил на это внимания.
Я вошел в дворницкую, и единственная женщина, оставшаяся с нами, жена дворника, бледная и болезненная, вдруг дико закричала. Я сбросил на пол продукты и увидел, что руки у меня облиты густой кровью. Через минуту все в дворницкой повалились от хохота, хотя обстановка никак не располагала к этому. Все хохотали и соскабливали с меня густое томатное пюре.
Когда я бежал обратно, стрелок все же успел выстрелить, пуля пробила банку с консервами, и меня всего залило кроваво-красным томатом.
Хлеба у нас не было ни крошки. Острый сыр, копченые колбасы и консервы с перцем мы ели без хлеба
и запивали холодной водопроводной водой.
Мой хозяин вспомнил, что у него на кухне остался мешок черных сухарей. Я вызвался пойти за ними.
Я осторожно поднялся по черной лестнице, заваленной битым кирпичом. В кухне из простреленной водопроводной трубы текла вода, и на полу стояла густая жижа размокшей штукатурки.
Я начал шарить в буфете, разыскивая сухари. В это время с бульвара послышались крики и топот ног.
Я пошел в свою комнату, чтобы посмотреть, что случилось. По бульвару цепью бежали с винтовками наперевес красногвардейцы. Юнкера отходили, не отстреливаясь.
Впервые я видел бой так близко, под самым окном своей комнаты. Меня поразили лица людей — зеленые, с ввалившимися глазами. Мне казалось, что эти люди ничего не видят и не понимают, оглушенные собственным криком.
“
Когда я бежал обратно через двор, что-то зазвенело у меня под руками, но я не обратил на это внимания. Я вошел в дворницкую, и единственная женщина, оставшаяся с нами, жена дворника, бледная и болезненная, вдруг дико закричала. Я сбросил на пол продукты и увидел, что руки у меня облиты густой кровью.
Я оторвался от окна, когда услышал на парадной лестнице торопливый топот сапог. С треском распахнулась дверь с лестницы в переднюю и с размаху ударилась в стенку. С потолка, посыпалась известка. Возбужденный голос крикнул в передней:
— Митюха, тащи сюда пулемет!
Я обернулся. В дверях стоял пожилой человек в ушанке и с пулеметной лентой через плечо. В руках у него была винтовка. Одно мгновение он пристально и дико смотрел на меня, потом быстро вскинул винтовку
и крикнул:
— Ни с места! Подыми руки!
Я поднял руки.
— Чего там, папаша? — спросил из коридора молодой голос.
— Попался один, — ответил человек в ушанке. — Стрелял. Из окна по нас стрелял, гад! В спину!
Только сейчас я сообразил, что на мне надета потрепанная студенческая тужурка, и вспомнил, что,
по словам пекаря, у Никитских ворот на стороне Временного правительства дралась студенческая дружина.
В комнату вошел молодой рабочий в натянутой на уши кепке. Он вразвалку подошел ко мне, лениво взял мою правую руку и внимательно осмотрел ладонь.
— Видать, не стрелял, папаша, — сказал он добродушно. — Пятна от затвора нету. Рука чистая.
— Дурья твоя башка! — крикнул человек в ушанке. — А ежели он из пистолета стрелял, а не из винтовки.
И пистолет выкинул. Веди его во двор!
— Все возможно, — ответил молодой рабочий и хлопнул меня по плечу. – А ну, шагай вперед! Да не дури.
Я все время молчал. Почему — не знаю. Очевидно, вся обстановка была настолько безнадежной, что оправдываться было просто бессмысленно.
Меня застали в комнате на втором этаже у выбитого окна, в доме, только что захваченном красногвардейцами. На мне была измазанная известкой и покрытая подозрительными бурыми пятнами
от томата студенческая тужурка. Что бы я ни сказал, мне бы все равно не поверили.
Я молчал, сознавая, что мое молчание — еще одна тяжелая улика против меня.
— Упорный, черт! — сказал человек в ушанке. — Сразу видать, что принципиальный.
Меня повели во двор. Молодой красногвардеец подталкивал меня в спину дулом винтовки.
Двор был полон красногвардейцев. Они вытаскивали из разбитого склада ящики и наваливали из них баррикаду поперек Тверского бульвара
— В чем дело? — зашумели красногвардейцы и окружили меня и обоих моих конвоиров. — Кто такой?
Человек в ушанке сказал, что я стрелял из окна им в спину.
— Разменять его! — закричал веселым голосом парень с хмельными глазами. — В штаб господа бога!
— Командира сюда!
— Нету командира!
— Где командир? Был приказ — пленных не трогать!
— Так то пленных. А он в спину бил. За это один ответ — расстрел на месте.
— Без командира нельзя, товарищи!
— Какой законник нашелся. Ставь его к стенке!
Меня потащили к стенке.
Из дворницкой выбежала простоволосая жена дворника. Она бросилась к красногвардейцам и начала судорожно хватать их за руки.
— Сынки, товарищи! — кричала она. — Да это ж наш жилец. Он в вас не стрелял. Мне жизнь не нужна, я больная. Убейте лучше меня.
— Ты, мать, не смей без разбору никого жалеть, — рассудительно сказал человек в ушанке. — Мы тоже не душегубы. Уйди, не мешайся.
Никогда я не мог понять — ни тогда, ни теперь — почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания — не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью, и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях.
Я помню семь выбоин от пуль. Сверху выбоины были белые (там, где была штукатурка), а в глубине — красные (где был кирпич). Помню железную, закрашенную белой краской скобку от оборванного звонка к дворнику, кусок электрического провода, привязанного к этой скобке, нарисованную на стене углем рожу с огромным носом и торчащими, как редкая проволока, волосами и подпись под нею: «Обманули дурака на четыре кулака!»
Мне казалось, что время остановилось и я погружен в какую-то всемирную немоту. На самом же деле прошло несколько секунд, и я услышал незнакомый и вместе с тем будто бы очень знакомый голос:
— Какого дьявола расстреливаете! Забыли приказ? Убрать винтовки! (…)
Так я и не узнал, кто был тот молодой командир с маузером, что спас меня. Я не встречал его больше никогда. А я узнал бы его среди десятков и сотен людей.
— Митюха, тащи сюда пулемет!
Я обернулся. В дверях стоял пожилой человек в ушанке и с пулеметной лентой через плечо. В руках у него была винтовка. Одно мгновение он пристально и дико смотрел на меня, потом быстро вскинул винтовку
и крикнул:
— Ни с места! Подыми руки!
Я поднял руки.
— Чего там, папаша? — спросил из коридора молодой голос.
— Попался один, — ответил человек в ушанке. — Стрелял. Из окна по нас стрелял, гад! В спину!
Только сейчас я сообразил, что на мне надета потрепанная студенческая тужурка, и вспомнил, что,
по словам пекаря, у Никитских ворот на стороне Временного правительства дралась студенческая дружина.
В комнату вошел молодой рабочий в натянутой на уши кепке. Он вразвалку подошел ко мне, лениво взял мою правую руку и внимательно осмотрел ладонь.
— Видать, не стрелял, папаша, — сказал он добродушно. — Пятна от затвора нету. Рука чистая.
— Дурья твоя башка! — крикнул человек в ушанке. — А ежели он из пистолета стрелял, а не из винтовки.
И пистолет выкинул. Веди его во двор!
— Все возможно, — ответил молодой рабочий и хлопнул меня по плечу. – А ну, шагай вперед! Да не дури.
Я все время молчал. Почему — не знаю. Очевидно, вся обстановка была настолько безнадежной, что оправдываться было просто бессмысленно.
Меня застали в комнате на втором этаже у выбитого окна, в доме, только что захваченном красногвардейцами. На мне была измазанная известкой и покрытая подозрительными бурыми пятнами
от томата студенческая тужурка. Что бы я ни сказал, мне бы все равно не поверили.
Я молчал, сознавая, что мое молчание — еще одна тяжелая улика против меня.
— Упорный, черт! — сказал человек в ушанке. — Сразу видать, что принципиальный.
Меня повели во двор. Молодой красногвардеец подталкивал меня в спину дулом винтовки.
Двор был полон красногвардейцев. Они вытаскивали из разбитого склада ящики и наваливали из них баррикаду поперек Тверского бульвара
— В чем дело? — зашумели красногвардейцы и окружили меня и обоих моих конвоиров. — Кто такой?
Человек в ушанке сказал, что я стрелял из окна им в спину.
— Разменять его! — закричал веселым голосом парень с хмельными глазами. — В штаб господа бога!
— Командира сюда!
— Нету командира!
— Где командир? Был приказ — пленных не трогать!
— Так то пленных. А он в спину бил. За это один ответ — расстрел на месте.
— Без командира нельзя, товарищи!
— Какой законник нашелся. Ставь его к стенке!
Меня потащили к стенке.
Из дворницкой выбежала простоволосая жена дворника. Она бросилась к красногвардейцам и начала судорожно хватать их за руки.
— Сынки, товарищи! — кричала она. — Да это ж наш жилец. Он в вас не стрелял. Мне жизнь не нужна, я больная. Убейте лучше меня.
— Ты, мать, не смей без разбору никого жалеть, — рассудительно сказал человек в ушанке. — Мы тоже не душегубы. Уйди, не мешайся.
Никогда я не мог понять — ни тогда, ни теперь — почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания — не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью, и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях.
Я помню семь выбоин от пуль. Сверху выбоины были белые (там, где была штукатурка), а в глубине — красные (где был кирпич). Помню железную, закрашенную белой краской скобку от оборванного звонка к дворнику, кусок электрического провода, привязанного к этой скобке, нарисованную на стене углем рожу с огромным носом и торчащими, как редкая проволока, волосами и подпись под нею: «Обманули дурака на четыре кулака!»
Мне казалось, что время остановилось и я погружен в какую-то всемирную немоту. На самом же деле прошло несколько секунд, и я услышал незнакомый и вместе с тем будто бы очень знакомый голос:
— Какого дьявола расстреливаете! Забыли приказ? Убрать винтовки! (…)
Так я и не узнал, кто был тот молодой командир с маузером, что спас меня. Я не встречал его больше никогда. А я узнал бы его среди десятков и сотен людей.
“
Никогда я не мог понять — ни тогда, ни теперь — почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания —
не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью,
и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях.
не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью,
и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях.
В ночь на шестой день нашей «Никитской осады» мы все, небритые и охрипшие от холода, сидели, как всегда, на ступеньках дворницкой и гадали, когда же окончится затяжной бой. Он как бы топтался на месте.
Потом на севере, со стороны Ходынки, появился воющий звук снаряда.
Он прошел над Москвой, и грохот разрыва раздался в стороне Кремля.
Тотчас, как по команде, остановился огонь. Очевидно, и красногвардейцы, и юнкера прислушивались и ждали второго взрыва, чтобы понять, куда бьет артиллерия.
И вот он пришел наконец, этот второй воющий и бесстрастный звук.
Снова взрыв блеснул в стороне Кремля.
— Неужто по Кремлю? — тихо сказал старый пекарь.
Архитектор вскочил.
— Никогда не поверю! — закричал он. — Не может этого быть! Никто не посмеет поднять руку на Кремль.
— Понятно, никто не посмеет, — тихо согласился пекарь. — Это для острастки. Подождите, послушаем.
Мы сидели, оцепенев. Мы ждали следующих выстрелов. (…)
Серый свет начал просачиваться с востока, зябкий свет раннего утра. Было необыкновенно тихо в Москве, так тихо, что мы слышали, как шумит на бульварах пламя газовых факелов.
— Похоже, конец, — вполголоса заметил старый пекарь. — Надо бы пойти поглядеть.
Мы осторожно вышли на Тверской бульвар.
В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камни мостовой.
На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь.
Около наших ворот длинным ручейком тянулась по камням замерзшая кровь. Дома, изорванные пулеметным огнем, роняли из окон острые осколки стекла, и вокруг все время слышалось его дребезжание.
Во всю ширину бульвара шли к Никитским воротам измученные молчаливые красногвардейцы. Красные повязки на их рукавах скатались в жгуты. Почти все курили, и огоньки папирос, вспыхивая во мгле, были похожи на беззвучную ружейную перепалку.
У кино «Унион» к фонарному столбу был привязан на древке белый флаг.
Около флага под стеной дома шеренгой стояли юнкера в измятых фуражках и серых от известки шинелях. Многие из них дремали, опираясь на винтовки.
К юнкерам подошел безоружный человек в кожаной куртке. Позади него остановилось несколько красногвардейцев.
Человек в кожаной куртке поднял руку и что-то негромко сказал юнкерам.
От юнкеров отделился высокий офицер. Он снял шашку и револьвер, бросил все это к ногам человека в кожаной куртке, отдал ему честь, повернулся и медленно, пошатываясь, пошел в сторону Арбатской площади.
После него все юнкера начали по очереди подходить к человеку в кожаной куртке и складывать к его ногам винтовки и патроны. Потом они так же медленно и устало, как и офицер, шли по Никитскому бульвару к Арбату.
Некоторые на ходу срывали с себя погоны.
Потом на севере, со стороны Ходынки, появился воющий звук снаряда.
Он прошел над Москвой, и грохот разрыва раздался в стороне Кремля.
Тотчас, как по команде, остановился огонь. Очевидно, и красногвардейцы, и юнкера прислушивались и ждали второго взрыва, чтобы понять, куда бьет артиллерия.
И вот он пришел наконец, этот второй воющий и бесстрастный звук.
Снова взрыв блеснул в стороне Кремля.
— Неужто по Кремлю? — тихо сказал старый пекарь.
Архитектор вскочил.
— Никогда не поверю! — закричал он. — Не может этого быть! Никто не посмеет поднять руку на Кремль.
— Понятно, никто не посмеет, — тихо согласился пекарь. — Это для острастки. Подождите, послушаем.
Мы сидели, оцепенев. Мы ждали следующих выстрелов. (…)
Серый свет начал просачиваться с востока, зябкий свет раннего утра. Было необыкновенно тихо в Москве, так тихо, что мы слышали, как шумит на бульварах пламя газовых факелов.
— Похоже, конец, — вполголоса заметил старый пекарь. — Надо бы пойти поглядеть.
Мы осторожно вышли на Тверской бульвар.
В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камни мостовой.
На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь.
Около наших ворот длинным ручейком тянулась по камням замерзшая кровь. Дома, изорванные пулеметным огнем, роняли из окон острые осколки стекла, и вокруг все время слышалось его дребезжание.
Во всю ширину бульвара шли к Никитским воротам измученные молчаливые красногвардейцы. Красные повязки на их рукавах скатались в жгуты. Почти все курили, и огоньки папирос, вспыхивая во мгле, были похожи на беззвучную ружейную перепалку.
У кино «Унион» к фонарному столбу был привязан на древке белый флаг.
Около флага под стеной дома шеренгой стояли юнкера в измятых фуражках и серых от известки шинелях. Многие из них дремали, опираясь на винтовки.
К юнкерам подошел безоружный человек в кожаной куртке. Позади него остановилось несколько красногвардейцев.
Человек в кожаной куртке поднял руку и что-то негромко сказал юнкерам.
От юнкеров отделился высокий офицер. Он снял шашку и револьвер, бросил все это к ногам человека в кожаной куртке, отдал ему честь, повернулся и медленно, пошатываясь, пошел в сторону Арбатской площади.
После него все юнкера начали по очереди подходить к человеку в кожаной куртке и складывать к его ногам винтовки и патроны. Потом они так же медленно и устало, как и офицер, шли по Никитскому бульвару к Арбату.
Некоторые на ходу срывали с себя погоны.
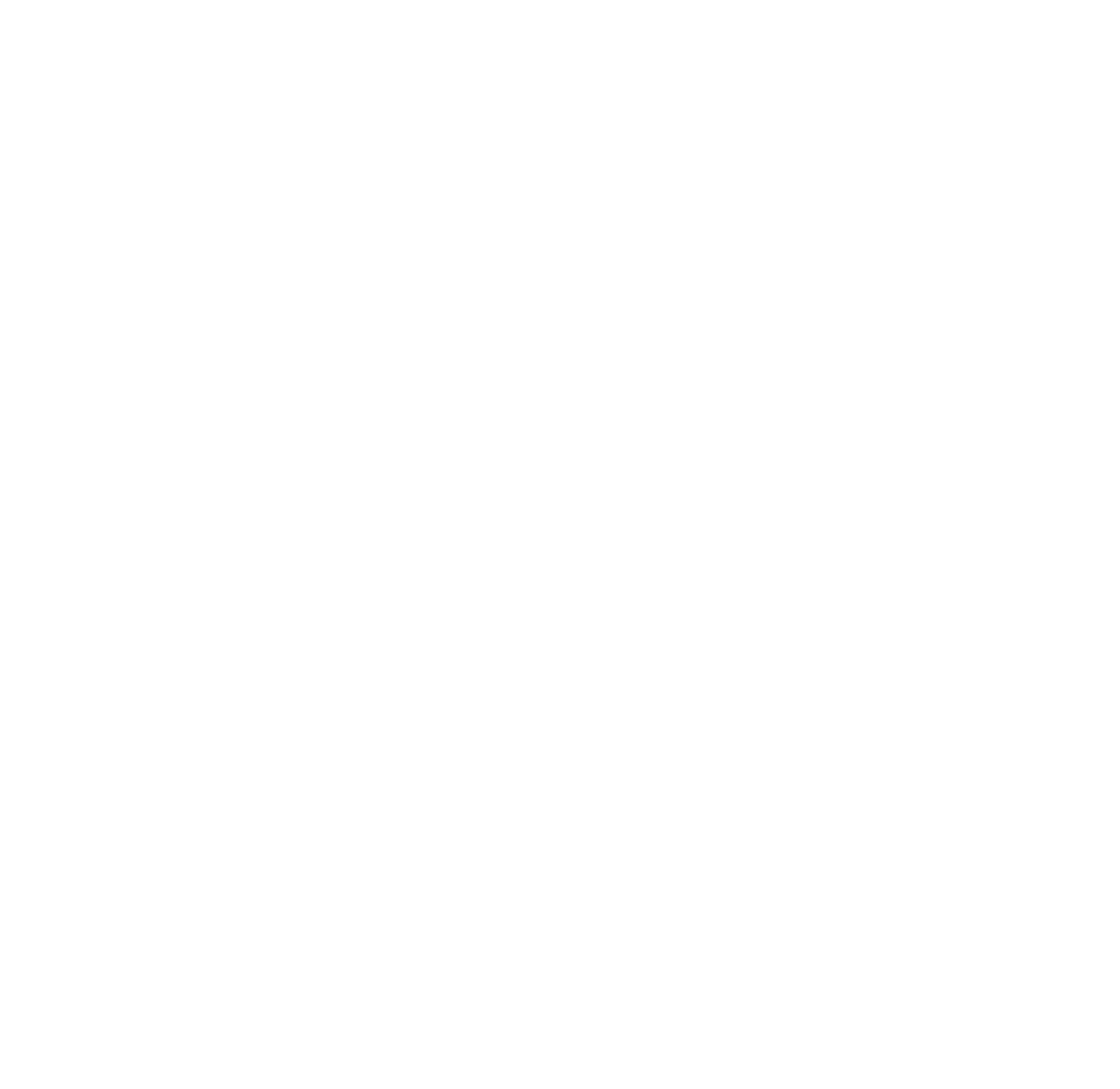
интервью с ректором
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний,
ректор Киевской духовной академии и семинарии
ректор Киевской духовной академии и семинарии
Конечно, студенты в частном общении могут свободно выражать свои политические убеждения.
Но в учебной аудитории это абсолютно недопустимо. Я прямо запрещаю преподавателям
обсуждение политических тем во время лекций. О политике можно говорить только в частном
порядке за пределами аудитории.
Но в учебной аудитории это абсолютно недопустимо. Я прямо запрещаю преподавателям
обсуждение политических тем во время лекций. О политике можно говорить только в частном
порядке за пределами аудитории.
Сергей Эфрон
Выпускник Московского Александровского военного училища 1917 года
Я не запомнил московского восстания по дням. Эти пять-шесть дней слились у меня в один сплошной день и одну сплошную ночь. Итак, храня приблизительную последовательность событий, за дни не ручаюсь.
Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцевым в самом начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом. Оружие мгновенно рассосалось по всей Москве. Большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. По опустевшим улицам
и переулкам Москвы затрещали выстрелы. Стреляли всюду и отовсюду и часто без всякой цели. Излюбленным местом для стрельбы были крыши и чердаки. Найти такого стрелка, даже если мы ясно обнаружили место, откуда стреляли, было почти невозможно. В то время как мы поднимались наверх —
он бесследно скрывался.
В первый же день начала действий мы попытались приобрести артиллерию. Для этого был отправлен легкий отряд из взвода казаков и нескольких офицеров-артиллеристов в автомобиле через всю Москву на Ходынку. Отряд вернулся благополучно, забрав с собою два легких орудия и семьдесят снарядов. Никакого сопротивления оказано не было. Почему налет не был повторен — мне неизвестно.
Юнкерами взят Кремль. Серьезного сопротивления большевики не оказали. Взятием руководил командир моего полка, полковник Пекарский.
Ночью несем караул в Манеже. Посты расставлены частью по Никитской, частью в сторону Москвы-реки. Ночь темная. Стою, прижавшись к стене, и вонзаю взгляд в темноту. То здесь, то там гулко хлопают выстрелы.
Прислушиваюсь. Чьи-то крадущиеся шаги. — Кто идет?
Молчание. Тихо. Может быть, померещилось? Нет — снова шаги, робкие, чуть слышные.
— Кто идет? Стрелять буду! — Щелкаю затвором.
— Ох, не стреляй, дружок. Это я!
— Отвечай кто, а то выстрелю.
— Спаси Господи, страхи какие! Церковный сторож я, батюшка, от Власия, что в Гагаринском.
Отпусти, Христа ради, душу на покаяние.
— Иди, иди, не бойся! (…)
Устанавливаем пулемет. У почтамта чернеет толпа.
— Разойтись! Стрелять будем!
— Мы мирные! Не стреляйте!
— Мирным нужно по домам сидеть!
Но верно, действительно мирные — винтовок не видно. Долго чего-то ждем. У меня после двух бессонных ночей глаза слипаются. Сажусь на приступенке у дверей какого-то банка и мгновенно засыпаю. (…)
Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцевым в самом начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом. Оружие мгновенно рассосалось по всей Москве. Большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. По опустевшим улицам
и переулкам Москвы затрещали выстрелы. Стреляли всюду и отовсюду и часто без всякой цели. Излюбленным местом для стрельбы были крыши и чердаки. Найти такого стрелка, даже если мы ясно обнаружили место, откуда стреляли, было почти невозможно. В то время как мы поднимались наверх —
он бесследно скрывался.
В первый же день начала действий мы попытались приобрести артиллерию. Для этого был отправлен легкий отряд из взвода казаков и нескольких офицеров-артиллеристов в автомобиле через всю Москву на Ходынку. Отряд вернулся благополучно, забрав с собою два легких орудия и семьдесят снарядов. Никакого сопротивления оказано не было. Почему налет не был повторен — мне неизвестно.
Юнкерами взят Кремль. Серьезного сопротивления большевики не оказали. Взятием руководил командир моего полка, полковник Пекарский.
Ночью несем караул в Манеже. Посты расставлены частью по Никитской, частью в сторону Москвы-реки. Ночь темная. Стою, прижавшись к стене, и вонзаю взгляд в темноту. То здесь, то там гулко хлопают выстрелы.
Прислушиваюсь. Чьи-то крадущиеся шаги. — Кто идет?
Молчание. Тихо. Может быть, померещилось? Нет — снова шаги, робкие, чуть слышные.
— Кто идет? Стрелять буду! — Щелкаю затвором.
— Ох, не стреляй, дружок. Это я!
— Отвечай кто, а то выстрелю.
— Спаси Господи, страхи какие! Церковный сторож я, батюшка, от Власия, что в Гагаринском.
Отпусти, Христа ради, душу на покаяние.
— Иди, иди, не бойся! (…)
Устанавливаем пулемет. У почтамта чернеет толпа.
— Разойтись! Стрелять будем!
— Мы мирные! Не стреляйте!
— Мирным нужно по домам сидеть!
Но верно, действительно мирные — винтовок не видно. Долго чего-то ждем. У меня после двух бессонных ночей глаза слипаются. Сажусь на приступенке у дверей какого-то банка и мгновенно засыпаю. (…)
“
Устанавливаем пулемет. У почтамта чернеет толпа.
— Разойтись! Стрелять будем!
— Мы мирные! Не стреляйте!
— Мирным нужно по домам сидеть!
— Разойтись! Стрелять будем!
— Мы мирные! Не стреляйте!
— Мирным нужно по домам сидеть!
Нас бросают то к Москве–реке, то на Пречистенку, то к Никитской, то к Театральной, и так без конца.
В ушах звенит от постоянных выстрелов (на улицах выстрелы куда оглушительнее, чем в поле).
Большевики ловко просачиваются в крепко занятые нами районы. Сегодня сняли двух солдат, стрелявших с крыши Офицерского общества, а оно находится в центре нашего расположения.
Продвигаться вперед без артиллерии нет возможности. Пришлось бы штурмовать дом за домом.
Прекрасно скрытые за стенами, большевики обсыпают нас из окон свинцом и гранатами. Время упущено. В первый день, поведи мы решительно наступление, Москва бы осталась за нами. (…)
Большевики начали обстрел из пушек. Сначала снаряды рвались лишь на Арбатской площади
и по бульварам, потом, очень вскоре, и по всему нашему району. Обстреливают и Кремль. Сердце сжимается смотреть, как над Кремлем разрываются шрапнели.
Стреляют со Страстной площади, с Кудрина и откуда-то из-за Москвы–реки — тяжелыми снарядами.
Шрапнели непрерывно разрываются над крышей и над окнами верхнего этажа, в котором расположены наши роты. Большая часть стекол перебита.
Каково общее самочувствие, лучше всего наблюдать за обедом или за чаем, когда все вместе:
юнкера, офицеры, студенты и добровольцы-дети.
Сижу обедаю. Против меня капитан-пулеметчик с перевязанной головой, рядом с ним — гимназист
лет двенадцати.
— Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься — начнешь просить есть ночью.
— Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, — деловито отвечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.
— Каков мой второй номер, — обращается ко мне капитан, — не правда ли, молодец? Задержки научился устранять, а хладнокровие и выдержка — нам взрослым поучиться. Я его с собою в полк заберу. Поедешь со мною на фронт?
Мнется.
— Ну?
— Из гимназии выгонят.
— А как же ты к нам в Александровское удрал? Даже маме ничего не сказал. За это из гимназии
не выгонят?
— Не выгонят. Здесь совсем другое дело. Ведь сами знаете, что совсем другое… (…)
В ушах звенит от постоянных выстрелов (на улицах выстрелы куда оглушительнее, чем в поле).
Большевики ловко просачиваются в крепко занятые нами районы. Сегодня сняли двух солдат, стрелявших с крыши Офицерского общества, а оно находится в центре нашего расположения.
Продвигаться вперед без артиллерии нет возможности. Пришлось бы штурмовать дом за домом.
Прекрасно скрытые за стенами, большевики обсыпают нас из окон свинцом и гранатами. Время упущено. В первый день, поведи мы решительно наступление, Москва бы осталась за нами. (…)
Большевики начали обстрел из пушек. Сначала снаряды рвались лишь на Арбатской площади
и по бульварам, потом, очень вскоре, и по всему нашему району. Обстреливают и Кремль. Сердце сжимается смотреть, как над Кремлем разрываются шрапнели.
Стреляют со Страстной площади, с Кудрина и откуда-то из-за Москвы–реки — тяжелыми снарядами.
Шрапнели непрерывно разрываются над крышей и над окнами верхнего этажа, в котором расположены наши роты. Большая часть стекол перебита.
Каково общее самочувствие, лучше всего наблюдать за обедом или за чаем, когда все вместе:
юнкера, офицеры, студенты и добровольцы-дети.
Сижу обедаю. Против меня капитан-пулеметчик с перевязанной головой, рядом с ним — гимназист
лет двенадцати.
— Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься — начнешь просить есть ночью.
— Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, — деловито отвечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.
— Каков мой второй номер, — обращается ко мне капитан, — не правда ли, молодец? Задержки научился устранять, а хладнокровие и выдержка — нам взрослым поучиться. Я его с собою в полк заберу. Поедешь со мною на фронт?
Мнется.
— Ну?
— Из гимназии выгонят.
— А как же ты к нам в Александровское удрал? Даже маме ничего не сказал. За это из гимназии
не выгонят?
— Не выгонят. Здесь совсем другое дело. Ведь сами знаете, что совсем другое… (…)
“
Сижу обедаю. Против меня капитан–пулеметчик
с перевязанной головой, рядом с ним —
гимназист лет двенадцати.
— Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься — начнешь просить есть ночью.
— Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, — деловито отвечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.
с перевязанной головой, рядом с ним —
гимназист лет двенадцати.
— Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься — начнешь просить есть ночью.
— Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, — деловито отвечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.
Опять выстраиваемся. Наш взвод идет к генералу Брусилову с письмом, приглашающим его принять командование всеми нашими силами. Брусилов живет в Мансуровском переулке, на Пречистенке.
Выходим на Арбатскую площадь. Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна — без стекол. Здесь и там вместо стекол — одеяла.
Москва гудит от канонады. То и дело над головой шелестит снаряд. Кое–где в стенах зияют бреши раненых домов. Но… жизнь и страх побеждает. У булочных Филиппова и Севастьянова толпятся кухарки и дворники с кошелками. При каждом разрыве или свисте снаряда кухарки крестятся, некоторые приседают. (...)
На углу Власьевского из высокого белого дома выходят несколько барышень с подносами, полными всякой снедью:
— Пожалуйста, господа, покушайте!
— Что вы, уходите скорее! До еды ли тут?
Но у барышень так разочарованно вытягиваются лица, что мы не можем отказаться. Нас угощают кашей с маслом, бутербродами и даже конфетами. Напоследок раздают папиросы. Мы дружно благодарим. (…)
Пречистенка. Бухают снаряды. Чаще щелкают пули по домам. Заходим в какой-то двор и ждем, чем кончатся переговоры с Брусиловым. Все уверены, что он станет во главе нас.
Ждем довольно долго — около часу. Наконец возвращаются от Брусилова.
— Ну что, как?
— Отказался по болезни. Тяжелое молчание в ответ. (…)
Выходим на Арбатскую площадь. Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна — без стекол. Здесь и там вместо стекол — одеяла.
Москва гудит от канонады. То и дело над головой шелестит снаряд. Кое–где в стенах зияют бреши раненых домов. Но… жизнь и страх побеждает. У булочных Филиппова и Севастьянова толпятся кухарки и дворники с кошелками. При каждом разрыве или свисте снаряда кухарки крестятся, некоторые приседают. (...)
На углу Власьевского из высокого белого дома выходят несколько барышень с подносами, полными всякой снедью:
— Пожалуйста, господа, покушайте!
— Что вы, уходите скорее! До еды ли тут?
Но у барышень так разочарованно вытягиваются лица, что мы не можем отказаться. Нас угощают кашей с маслом, бутербродами и даже конфетами. Напоследок раздают папиросы. Мы дружно благодарим. (…)
Пречистенка. Бухают снаряды. Чаще щелкают пули по домам. Заходим в какой-то двор и ждем, чем кончатся переговоры с Брусиловым. Все уверены, что он станет во главе нас.
Ждем довольно долго — около часу. Наконец возвращаются от Брусилова.
— Ну что, как?
— Отказался по болезни. Тяжелое молчание в ответ. (…)
“
Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна — без стекол.
Здесь и там вместо стекол — одеяла.
Здесь и там вместо стекол — одеяла.
Мне шепотом передают, что патроны на исходе. И все передают эту новость шепотом, хотя и до этого было ясно, что патроны кончаются. Их начали выдавать по десяти на каждого в сутки. Наши пулеметы начинают затихать. Противник же обнаглел как никогда. Нет, кажется, чердака, с которого бы нас не обстреливали…
Оставлено градоначальство. Там отсиживались студенты, окруженные со всех сторон большевиками. Большие потери убитыми. (…)
Вечер. Снаряжают безумную экспедицию за патронами к Симонову монастырю. Там артиллерийские склады.
С большевистскими документами отправляются на грузовике молодой князь Д. и несколько кадетов, переодетых рабочими. Напряженно ждем их возвращения. Им нужно проехать много верст, занятых большевиками. Ждем…
Проходит час, другой. Крики:
— Едут! Приехали!
К подъезду училища медленно подкатывает грузовик, заваленный патронными ящиками.
Приехавших восторженно окружают. Кричат «Ура!». Они рассказывают:
— Самое гадкое было встретиться с первыми большевистскими постами. Окликают нас: «Кто едет? Стой!»
— Свои, товарищи! Так вас перетак.
— Стой! Что пропуск?
— Какой там пропуск! Так вас перетак! В Драгомирове юнкеря наступают, мы без патронов сидим,
а вы с пропуском пристаете! Так вас и так!
— Ну ладно. Чего кричите? Езжайте!
Мы припустили машину. Не тут-то было. Проехали два квартала — опять крики:
— Стой! Кто едет?
И так все время. Ну и чертова же прорва красногвардейцев всюду! Наконец добрались до складов.
Как въехали во двор, сейчас же ругаться последними словами.
— Кто тут заведующий? Куда он провалился? Мы на него в Совет пожалуемся! На нас юнкеря наступают,
а здесь никого не дозовешься!
Заведующий совсем растерялся. Еще сам же нам патроны грузить помогал. Нагрузили мы и обратно
тем же путем направились. Нас всюду уж как знакомых встречали. Больше уж не приставали…»
Спешно посылаем патроны на телефонную станцию. Несчастные юнкера, сидящие там в карауле,
не могут отстреливаться от наседающих на них красногвардейцев.
При вскрытии ящиков обнаруживается, что три четверти привезенных патронов — учебные,
вместо пуль — пыжи.
Оставлено градоначальство. Там отсиживались студенты, окруженные со всех сторон большевиками. Большие потери убитыми. (…)
Вечер. Снаряжают безумную экспедицию за патронами к Симонову монастырю. Там артиллерийские склады.
С большевистскими документами отправляются на грузовике молодой князь Д. и несколько кадетов, переодетых рабочими. Напряженно ждем их возвращения. Им нужно проехать много верст, занятых большевиками. Ждем…
Проходит час, другой. Крики:
— Едут! Приехали!
К подъезду училища медленно подкатывает грузовик, заваленный патронными ящиками.
Приехавших восторженно окружают. Кричат «Ура!». Они рассказывают:
— Самое гадкое было встретиться с первыми большевистскими постами. Окликают нас: «Кто едет? Стой!»
— Свои, товарищи! Так вас перетак.
— Стой! Что пропуск?
— Какой там пропуск! Так вас перетак! В Драгомирове юнкеря наступают, мы без патронов сидим,
а вы с пропуском пристаете! Так вас и так!
— Ну ладно. Чего кричите? Езжайте!
Мы припустили машину. Не тут-то было. Проехали два квартала — опять крики:
— Стой! Кто едет?
И так все время. Ну и чертова же прорва красногвардейцев всюду! Наконец добрались до складов.
Как въехали во двор, сейчас же ругаться последними словами.
— Кто тут заведующий? Куда он провалился? Мы на него в Совет пожалуемся! На нас юнкеря наступают,
а здесь никого не дозовешься!
Заведующий совсем растерялся. Еще сам же нам патроны грузить помогал. Нагрузили мы и обратно
тем же путем направились. Нас всюду уж как знакомых встречали. Больше уж не приставали…»
Спешно посылаем патроны на телефонную станцию. Несчастные юнкера, сидящие там в карауле,
не могут отстреливаться от наседающих на них красногвардейцев.
При вскрытии ящиков обнаруживается, что три четверти привезенных патронов — учебные,
вместо пуль — пыжи.
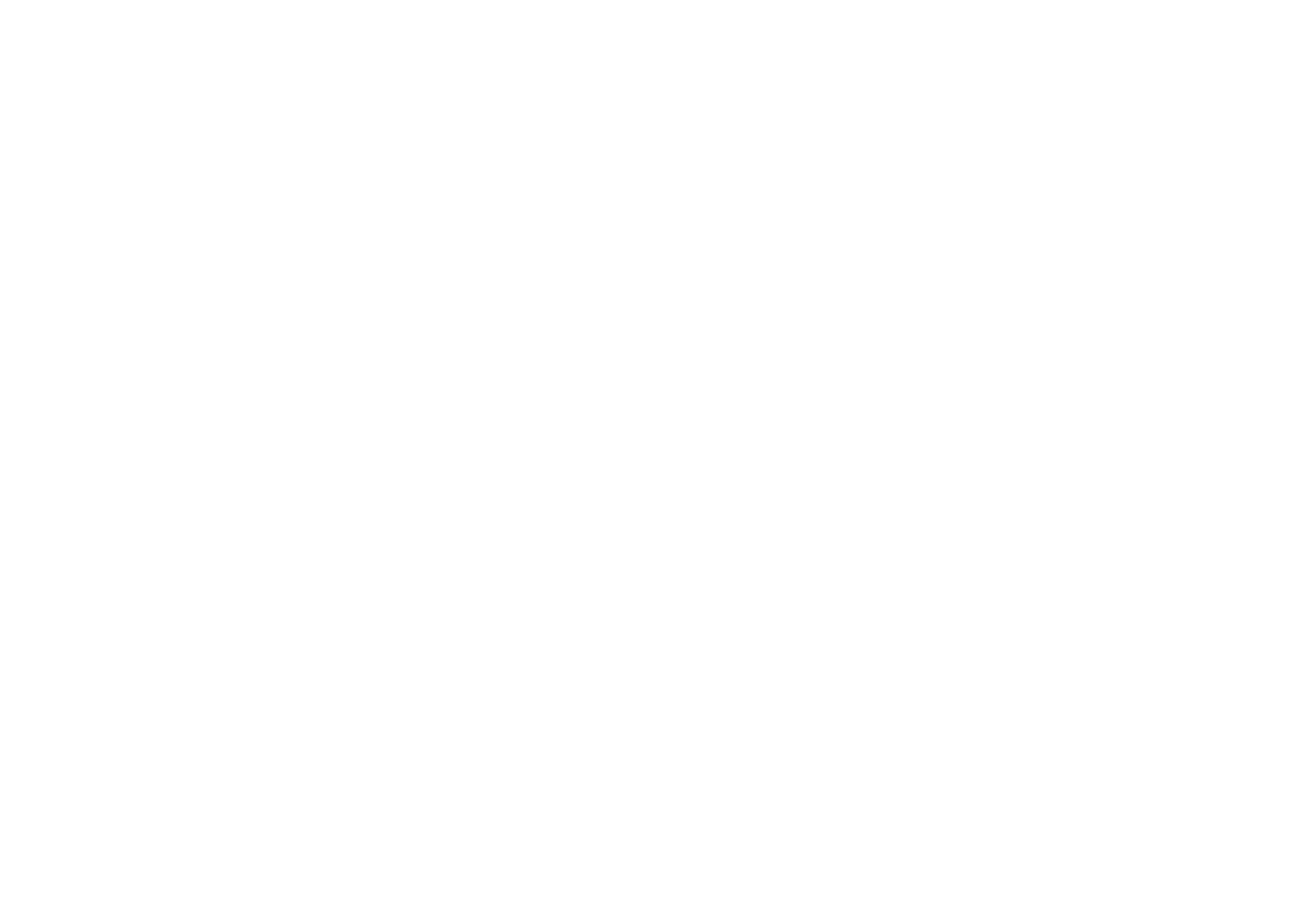
С каждым часом хуже. Наши пулеметы почти умолкли. Сейчас вернулись со Смоленского рынка. Мы потеряли еще одного.
Теперь выясняется, что помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. Но никто, как по уговору, не говорит о безнадежности положения. Ведут себя так, словно в конечном успехе и сомневаться нельзя. А вместе с тем ясно, что не сегодня завтра мы будем уничтожены. И все, конечно, это чувствуют.
Для чего-то всех спешно сзывают в актовый зал. Иду. Зал уже полон. В дверях толпятся юнкера. В центре — стол. Вокруг него несколько штатских — те, которых мы вели из городской думы. На лицах собравшихся — мучительное и недоброе ожидание.
На стол взбирается один из штатских.
— Кто это? — спрашиваю.
— Министр Прокопович.
— Господа! — начинает он срывающимся голосом. — Вы офицеры и от вас нечего скрывать правды. Положение наше безнадежно. Помощи ждать неоткуда. Патронов и снарядов нет. Каждый час приносит новые жертвы. Дальнейшее сопротивление грубой силе — бесполезно.
Взвесив серьезно эти обстоятельства, Комитет общественной безопасности подписал сейчас условия сдачи. Условия таковы. Офицерам сохраняется присвоенное им оружие. Юнкерам оставляется лишь то оружие, которое необходимо им для занятий. Всем гарантируется абсолютная безопасность. Эти условия вступают в силу с момента подписания. Представитель большевиков обязался прекратить обстрел занятых нами районов, с тем чтобы мы немедленно приступили к стягиванию наших сил.
В ответ тягостная тишина. Чей-то резкий голос:
— Кто вас уполномочил подписать условия капитуляции?
— Я член Временного правительства.
— И вы, как член Временного правительства, считаете возможным прекратить борьбу с большевиками? Сдаться на волю победителей?
— Я не считаю возможным продолжать бесполезную бойню, — взволнованно отвечает Прокопович.
Исступленные крики:
— Позор! Опять предательство. Они только сдаваться умеют! Они не смели за нас подписывать! Мы не сдадимся!
Прокопович стоит с опущенной головой. Вперед выходит молодой полковник, георгиевский кавалер, Хованский.
— Господа! Я беру смелость говорить от вашего имени. Никакой сдачи быть не может! Если угодно — вы, не бывшие с нами и не сражавшиеся, вы, подписавшие этот позорный документ, вы можете сдаться. Я же, как и большинство здесь присутствующих, — я лучше пушу себе пулю в лоб, чем сдамся врагам, которых считаю предателями Родины. Я только что говорил с полковником Дорофеевым. Отдано приказание расчистить путь к Брянскому вокзалу. Драгомиловский мост уже в наших руках. Мы займем эшелоны и будем продвигаться на юг, к казакам, чтобы там собрать силы для дальнейшей борьбы с предателями. Итак, предлагаю разделиться на две части. Одна сдается большевикам, другая прорывается на Дон с оружием.
Речь полковника встречается ревом восторга и криками:
— На Дон! Долой сдачу! (…)
Теперь выясняется, что помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. Но никто, как по уговору, не говорит о безнадежности положения. Ведут себя так, словно в конечном успехе и сомневаться нельзя. А вместе с тем ясно, что не сегодня завтра мы будем уничтожены. И все, конечно, это чувствуют.
Для чего-то всех спешно сзывают в актовый зал. Иду. Зал уже полон. В дверях толпятся юнкера. В центре — стол. Вокруг него несколько штатских — те, которых мы вели из городской думы. На лицах собравшихся — мучительное и недоброе ожидание.
На стол взбирается один из штатских.
— Кто это? — спрашиваю.
— Министр Прокопович.
— Господа! — начинает он срывающимся голосом. — Вы офицеры и от вас нечего скрывать правды. Положение наше безнадежно. Помощи ждать неоткуда. Патронов и снарядов нет. Каждый час приносит новые жертвы. Дальнейшее сопротивление грубой силе — бесполезно.
Взвесив серьезно эти обстоятельства, Комитет общественной безопасности подписал сейчас условия сдачи. Условия таковы. Офицерам сохраняется присвоенное им оружие. Юнкерам оставляется лишь то оружие, которое необходимо им для занятий. Всем гарантируется абсолютная безопасность. Эти условия вступают в силу с момента подписания. Представитель большевиков обязался прекратить обстрел занятых нами районов, с тем чтобы мы немедленно приступили к стягиванию наших сил.
В ответ тягостная тишина. Чей-то резкий голос:
— Кто вас уполномочил подписать условия капитуляции?
— Я член Временного правительства.
— И вы, как член Временного правительства, считаете возможным прекратить борьбу с большевиками? Сдаться на волю победителей?
— Я не считаю возможным продолжать бесполезную бойню, — взволнованно отвечает Прокопович.
Исступленные крики:
— Позор! Опять предательство. Они только сдаваться умеют! Они не смели за нас подписывать! Мы не сдадимся!
Прокопович стоит с опущенной головой. Вперед выходит молодой полковник, георгиевский кавалер, Хованский.
— Господа! Я беру смелость говорить от вашего имени. Никакой сдачи быть не может! Если угодно — вы, не бывшие с нами и не сражавшиеся, вы, подписавшие этот позорный документ, вы можете сдаться. Я же, как и большинство здесь присутствующих, — я лучше пушу себе пулю в лоб, чем сдамся врагам, которых считаю предателями Родины. Я только что говорил с полковником Дорофеевым. Отдано приказание расчистить путь к Брянскому вокзалу. Драгомиловский мост уже в наших руках. Мы займем эшелоны и будем продвигаться на юг, к казакам, чтобы там собрать силы для дальнейшей борьбы с предателями. Итак, предлагаю разделиться на две части. Одна сдается большевикам, другая прорывается на Дон с оружием.
Речь полковника встречается ревом восторга и криками:
— На Дон! Долой сдачу! (…)
“
А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми,
как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших,
над всей Россией.
как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших,
над всей Россией.
Оставлен Кремль. При сдаче был заколот штыками мой командир полка — полковник Пекарский, так недавно еще бравший Кремль.
Училище оцеплено большевиками. Все выходы заняты. Перед училищем расхаживают красногвардейцы, обвешанные ручными гранатами и пулеметными лентами, солдаты…
Когда кто-либо из нас приближается к окну — снизу несется площадная брань, угрозы, показываются кулаки, прицеливаются в наши окна винтовками.
Внизу, в канцелярии училища, всем офицерам выдают заготовленные ранее комендантом отпуска на две недели. Выплачивают жалованье за месяц вперед. Предлагают сдавать револьверы и шашки.
— Все равно, господа, отберут. А так есть надежда гуртом отстоять. Получите уже у большевиков.
Своего револьвера я не сдаю, а прячу так глубоко, что, верно, и до сих пор лежит ненайденным в недрах Александровского училища. (…)
Панихида по павшим. Потрескивает воск, склонились стриженые головы. А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми, как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших, над всей Россией.
Напутственный молебен. Расходимся.
Встречаю на лестнице Гольцева.
— Пора удирать, Сережа, — говорит он решительно. — Я сдаваться этой сволочи не хочу. Нужно переодеться. Идем.
Рыскаем по всему училищу в поисках подходящей одежды. Наконец находим у ротного каптенармуса два рабочих полушубка, солдатские папахи, а я, кроме того, невероятных размеров сапоги. Торопливо переодеваемся, выпускаем из-под папах чубы.
Идем к выходной двери.
У дверей красногвардейцы с винтовками никого не выпускают. Я нагло берусь за дверную ручку.
— Стой! Ты кто такой? — Подозрительно осматривают.
— Да это свой, кажись, — говорит другой красногвардеец.
— Морда юнкерская! — возражает первый.
Но, видно, и он в сомнении, потому что открывает дверь и дает мне выйти.
Секунда… И я на Арбатской площади. Следом выходит и Гольцев.
Училище оцеплено большевиками. Все выходы заняты. Перед училищем расхаживают красногвардейцы, обвешанные ручными гранатами и пулеметными лентами, солдаты…
Когда кто-либо из нас приближается к окну — снизу несется площадная брань, угрозы, показываются кулаки, прицеливаются в наши окна винтовками.
Внизу, в канцелярии училища, всем офицерам выдают заготовленные ранее комендантом отпуска на две недели. Выплачивают жалованье за месяц вперед. Предлагают сдавать револьверы и шашки.
— Все равно, господа, отберут. А так есть надежда гуртом отстоять. Получите уже у большевиков.
Своего револьвера я не сдаю, а прячу так глубоко, что, верно, и до сих пор лежит ненайденным в недрах Александровского училища. (…)
Панихида по павшим. Потрескивает воск, склонились стриженые головы. А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми, как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших, над всей Россией.
Напутственный молебен. Расходимся.
Встречаю на лестнице Гольцева.
— Пора удирать, Сережа, — говорит он решительно. — Я сдаваться этой сволочи не хочу. Нужно переодеться. Идем.
Рыскаем по всему училищу в поисках подходящей одежды. Наконец находим у ротного каптенармуса два рабочих полушубка, солдатские папахи, а я, кроме того, невероятных размеров сапоги. Торопливо переодеваемся, выпускаем из-под папах чубы.
Идем к выходной двери.
У дверей красногвардейцы с винтовками никого не выпускают. Я нагло берусь за дверную ручку.
— Стой! Ты кто такой? — Подозрительно осматривают.
— Да это свой, кажись, — говорит другой красногвардеец.
— Морда юнкерская! — возражает первый.
Но, видно, и он в сомнении, потому что открывает дверь и дает мне выйти.
Секунда… И я на Арбатской площади. Следом выходит и Гольцев.
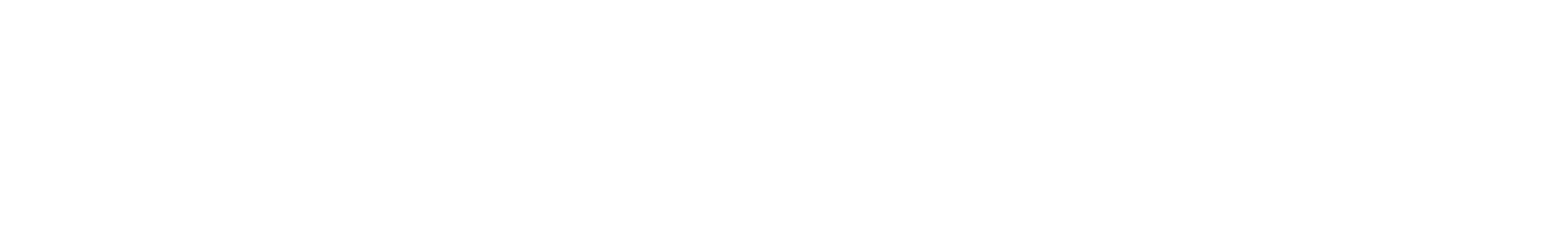
интервью с ректором
Архимандрит Сергий,
ректор Минской духовной академии
ректор Минской духовной академии
Из почти 20-летнего опыта работы в духовных школах Республики Беларусь могу отметить, что протестные настроения, если они и имеют место, практически не связаны с политическими мотивами.
НОЯБРЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Опубликованы предварительные результаты выборов. Большевики проиграли. Вместе с левыми эсерами они далеко позади правого крыла эсеровской партии по числу мест в Учредительном собрании. Я со своими товарищами набрал на выборах в Вологодской губернии около 90 % голосов. Вчера вечером мы отметили это в высшей степени экстравагантным банкетом. Каждый съел кусочек хлеба, половинку сосиски, консервированные персики и выпил чай с сахаром.
Тем временем я продолжаю играть роль мышки, убегающей от кошки. По закону все депутаты имеют иммунитет против ареста, но закон - это одно, а большевистская практика — другое. Все дороги ведут сейчас не в Рим, а в тюрьму. Я устал и измучен, частью напряженной работой, частью голодом.
27 ноября 1917 года
По закону сегодня должно открыться Учредительное собрание. День выдался отличный. Прекрасное голубое небо, белый снег; на их фоне отлично смотрятся огромные лозунги и плакаты: «Да здравствует Учредительное собрание, хозяин России!» Толпы людей, несущие эти лозунги, приветствуют высшую власть в стране, настоящий голос народов России. Когда депутаты подошли к Таврическому дворцу, тысячи людей оглушительными криками приветствовали их. Но когда депутаты толкнулись в ворота дворца, они обнаружили их запертыми и охраняемыми вооруженными до зубов латышскими стрелками.
Надо было что-то немедленно предпринимать. Вскарабкавшись на железную ограду дворца, я обратился
к народу, а другие депутаты в это время перелезали через ограду во двор. Им удалось отпереть ворота,
и толпа ворвалась во двор. Ошеломленные дерзостью маневра, латышские стрелки колебались,
и в результате двери дворца открылись, и мы вошли внутрь, сопровождаемые множеством горожан.
В дворцовом зале провели заседание и призвали на нем российскую нацию защитить свое Учредительное собрание.
Тем временем я продолжаю играть роль мышки, убегающей от кошки. По закону все депутаты имеют иммунитет против ареста, но закон - это одно, а большевистская практика — другое. Все дороги ведут сейчас не в Рим, а в тюрьму. Я устал и измучен, частью напряженной работой, частью голодом.
27 ноября 1917 года
По закону сегодня должно открыться Учредительное собрание. День выдался отличный. Прекрасное голубое небо, белый снег; на их фоне отлично смотрятся огромные лозунги и плакаты: «Да здравствует Учредительное собрание, хозяин России!» Толпы людей, несущие эти лозунги, приветствуют высшую власть в стране, настоящий голос народов России. Когда депутаты подошли к Таврическому дворцу, тысячи людей оглушительными криками приветствовали их. Но когда депутаты толкнулись в ворота дворца, они обнаружили их запертыми и охраняемыми вооруженными до зубов латышскими стрелками.
Надо было что-то немедленно предпринимать. Вскарабкавшись на железную ограду дворца, я обратился
к народу, а другие депутаты в это время перелезали через ограду во двор. Им удалось отпереть ворота,
и толпа ворвалась во двор. Ошеломленные дерзостью маневра, латышские стрелки колебались,
и в результате двери дворца открылись, и мы вошли внутрь, сопровождаемые множеством горожан.
В дворцовом зале провели заседание и призвали на нем российскую нацию защитить свое Учредительное собрание.
мнение эксперта
Николай Сванидзе
публицист, телеведущий
публицист, телеведущий
Подвиг юнкеров сейчас никто не припоминает – он никому не нужен. На протяжении всей советской истории о нём невозможно было говорить. Если и вспоминали, то пренебрежительно и враждебно. А сейчас власть не знает, и соответственно все средства информации, которые тесно с ней связаны, тоже не знают, кому в событиях 1917 года продемонстрировать сочувствие.
ДЕКАБРЬ
Питирим Сорокин
Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета
Печать разрушения тяжело легла на Петроград. Вся деловая жизнь замерла. И ночью и днем мы слышали шум стрельбы. Безумие опустошения и грабежей захлестнуло города и даже сельские районы. Армия больше не существовала, и немцы могли идти куда угодно.
Сегодня последний день 1917 года. Я вспоминаю прошедший год с чувством горечи и разочарования.
Сегодня последний день 1917 года. Я вспоминаю прошедший год с чувством горечи и разочарования.
Ольга Бессарабова
Слушательница высших женских курсов
В.А. Полторацкой
В.А. Полторацкой
2 декабря
Дни мои мерзнут в архиве, ходят по Тверской, что-то едят и пьют, на что-то машут рукой, читают так,
как запойные пьяницы пьют. Вечера мои — слушают музыку, умных философов, поэтических Бальмонтов.
20 декабря
Смотрела я на лица на улицах. Вереница изящных женщин. Почти все лица — центр своего мирка, счастья (или несчастья). И даже не «счастья», а удовольствия, которое не видит и не слышит ничего, что теперь рушится, тонет, растет, зарождается. Перестраивается вся жизнь всей стран. А живут люди как ни в чем
не бывало. «Пока!»
Вижу необычайные сны — вроде сотворения миров, может быть, похожие на картины Богаевского, только
с элементами разрушенных до основания, пустых городов — так разрушенных, что не видно, где были улицы, а где дома — где церкви и дворцы, а где лачуги. Грохоты падающих гор (под дирижерскую палочку человека во фраке) — расцветающие пустыни, заново возникающие острова, города. В каком-то малознакомом городе — ищу свою дочь — она уже большая.
24 декабря
Не могу отвязаться от навязчивой фразы Уайльда из Саломеи: «Я слышу взмахи крыльев смерти в этом доме». Но даже не смерти, а хуже. Да, да, да. Вроде летучей мыши, что-то вьется над прекрасным этим домом. Ради Шуры не хочу додумывать.
Господи, сохрани этот дом. Дай ему мир. Сбереги его. […]
Дни мои мерзнут в архиве, ходят по Тверской, что-то едят и пьют, на что-то машут рукой, читают так,
как запойные пьяницы пьют. Вечера мои — слушают музыку, умных философов, поэтических Бальмонтов.
20 декабря
Смотрела я на лица на улицах. Вереница изящных женщин. Почти все лица — центр своего мирка, счастья (или несчастья). И даже не «счастья», а удовольствия, которое не видит и не слышит ничего, что теперь рушится, тонет, растет, зарождается. Перестраивается вся жизнь всей стран. А живут люди как ни в чем
не бывало. «Пока!»
Вижу необычайные сны — вроде сотворения миров, может быть, похожие на картины Богаевского, только
с элементами разрушенных до основания, пустых городов — так разрушенных, что не видно, где были улицы, а где дома — где церкви и дворцы, а где лачуги. Грохоты падающих гор (под дирижерскую палочку человека во фраке) — расцветающие пустыни, заново возникающие острова, города. В каком-то малознакомом городе — ищу свою дочь — она уже большая.
24 декабря
Не могу отвязаться от навязчивой фразы Уайльда из Саломеи: «Я слышу взмахи крыльев смерти в этом доме». Но даже не смерти, а хуже. Да, да, да. Вроде летучей мыши, что-то вьется над прекрасным этим домом. Ради Шуры не хочу додумывать.
Господи, сохрани этот дом. Дай ему мир. Сбереги его. […]
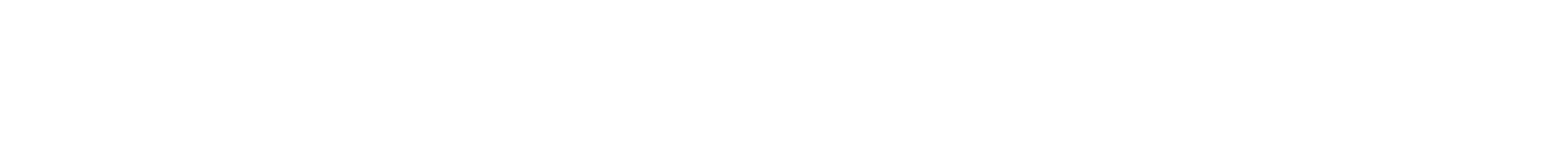
“
«Я слышу взмахи крыльев смерти в этом доме».
Но даже не смерти, а хуже. Да, да, да. Вроде летучей мыши, что-то вьется над прекрасным этим домом. Ради Шуры не хочу додумывать.
Господи, сохрани этот дом. Дай ему мир. Сбереги его.
Но даже не смерти, а хуже. Да, да, да. Вроде летучей мыши, что-то вьется над прекрасным этим домом. Ради Шуры не хочу додумывать.
Господи, сохрани этот дом. Дай ему мир. Сбереги его.
ФОТОПРОЕКТ
ПОРТРЕТ СТУДЕНТА
Как выглядят студенты сегодня и кем они видят себя
100 лет назад
100 лет назад
интервью с ректором
Виктор Садовничий,
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова
Политически протестных настроений я за многие годы работы не ощущал. Но есть ребята
и группы, которые ищут недостатки в работе университета, поводы, чтобы себя показать и других
сагитировать. Это не политические лозунги, а скорее административно-бытовые. С такими
ребятами я встречался несколько раз, были и острые встречи. Я понимаю, что иногда они правы,
надо их послушать, иногда под каким-то впечатлением заостряют ситуацию.
и группы, которые ищут недостатки в работе университета, поводы, чтобы себя показать и других
сагитировать. Это не политические лозунги, а скорее административно-бытовые. С такими
ребятами я встречался несколько раз, были и острые встречи. Я понимаю, что иногда они правы,
надо их послушать, иногда под каким-то впечатлением заостряют ситуацию.
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
РЕДАКТОРЫ
Андрей Васенёв, Даниил Сидоров
ТЕКСТ
Дарья Ганиева, Алина Гарбузняк, Михаил Ерёмин, Анастасия Прощенко,
Владимир Тихомиров
ФОТО И ВИДЕО
Алёна Каплина
МУЗЫКА
Александр Тавризян
ГЕРОЙ ФИЛЬМА
Даниил Корпусов
ТЕКСТ ЧИТАЕТ
Игорь Ветров
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Ксения Касьмина, Анна Сытина
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Анна Сытина
ПРОДЮСЕР
Татьяна Скрабанская
Андрей Васенёв, Даниил Сидоров
ТЕКСТ
Дарья Ганиева, Алина Гарбузняк, Михаил Ерёмин, Анастасия Прощенко,
Владимир Тихомиров
ФОТО И ВИДЕО
Алёна Каплина
МУЗЫКА
Александр Тавризян
ГЕРОЙ ФИЛЬМА
Даниил Корпусов
ТЕКСТ ЧИТАЕТ
Игорь Ветров
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Ксения Касьмина, Анна Сытина
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Анна Сытина
ПРОДЮСЕР
Татьяна Скрабанская